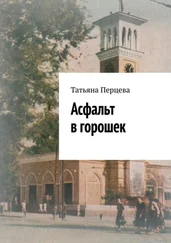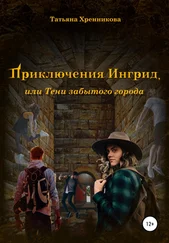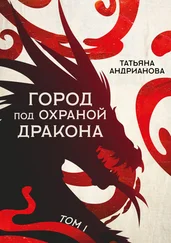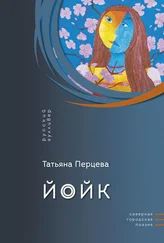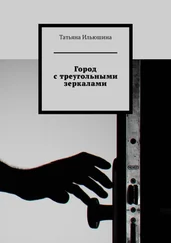Точно так же дело обстояло и с поэзией. Конечно, тут и бабушки с Алайского, непонятно где раздобывавшие дефицит и, главное, не просившие миллионов, и спекулянты, и книжный блат…
На все это ушли годы и годы. И не менее четырех библиотек, не считая времени, проведенного в публичках.
То, что раньше казалось прекрасным, иногда с течением времени становилось просто хламом, но великие оставались великими.
С живописью дело обстояло интереснее. То есть забавнее.
В детстве мама выписывала журнал «Огонек». Его в моей семье даже не читали (кроме меня). Журнал был достаточно политизированным, тем более что с начала пятидесятых и почти до конца восьмидесятых редактором оставался Анатолий Софронов, бездарный драматург и человек с отвратительной репутацией, из тех, кто не брезговал ничем. Пик взлета «Огонька» — годы, когда редактором стал Виталий Коротич. Тогда посыпались всяческие разоблачения, «Огонек» стал рупором перестройки, хотя мало чем отличался от желтой прессы.
Ну а в пятидесятые журнал печатал статьи о превосходстве СССР над остальными странами, рассказы советских писателей, иногда юмористические или фельетоны, карикатуры Бор. Ефимова, брата Михаила Кольцова. Из-за этих карикатур я долгое время считала, что у всех американцев ужасно уродливые хари, а у Тито действительно с рук капает кровь. Меня можно извинить. В пятидесятом мне было пять лет. Всему поверишь. Выписывали «Огонек» из-за прекрасных литературных приложений. Чего там только не печаталось! Позже стало возможным выписывать приложения без журнала.
Но «Огонек» делал одно очень доброе дело: помещал на развороте четыре страницы репродукций русских и зарубежных художников.
Эти репродукции и стали причиной моего интереса к живописи. Тем более что журнал был еженедельным. Я репродукции вырывала и складывала в выделенную родителями папку. Именно там я впервые увидела репродукцию портрета Гейнсборо «Дама в голубом», тем более что картина находится в Эрмитаже. Папка так и лежит у меня. До сих пор.
Потихоньку я стала запоминать имена… Что-то нравилось, что-то нет.
Потом в руки мне попала книга о Рембрандте, где репродукции, как встарь, были переложены папиросной бумагой. Над книгой я долго плакала. Очень жалко было Рембрандта. Я никогда не думала, что увижу его дом в Амстердаме. Но увидела. Случилось.
Я не знаю, откуда в доме появились вырванные из какой-то очень старой книги черно-белые репродукции портретов Антониса Ван Дейка. Сплошь изображения знаменитостей XVII века. Короли, королевы, фаворитки, куртизанки… Почему-то я не расспросила маму, откуда они. Но эти репродукции тоже у меня. Таких ни у кого нет. И, кроме того, я заинтересовалась изображенными на портретах людьми и таким образом увлеклась историей.
И тут я узнаю, что картины, оказывается, хранятся в музеях! Папа проговорился, на свою голову. Ну и попался. Сам виноват. Я так его достала, что он повел меня в музей. Который назвал музеем изящных искусств. Там я сразу влюбилась в Атланта, раз и на всю жизнь. И в «Девочку с веером» итальянского скульптора Фантакиотти, не слишком известного, потому что сведений о нем почти не нашлось. Меня поразили мраморные кружева ее платья. Скульптур немного, но они все очень неплохие. Великий князь Николай Константинович и чиновник Шляхтин дряни не собирали. Слава богу, их не расхитили, как расхитили и разворовали множество картин музея в наше время. А собрание было прекрасным.
Став чуть повзрослее, я начала ходить в музей одна. А позже часто убегала с уроков и ходила по пустым залам.
Прошло много лет, я успела определиться в пристрастиях и нелюбви. Безусловно, Эль Греко, на которого я могу смотреть часами. Моне, прерафаэлиты, английские и русские портретисты, Куинджи, Лукас Кранах Старший, Босх, Серов, отчасти Гойя, Врубель. Отдельно — картина Ге «Голгофа», небольшая, но потрясшая меня своей правдивостью изображенных мук Христа. Перечислять сложно и долго. Как я уже писала, к нелюбимым относятся авангардисты (за редчайшим исключением, вроде некоторых картин Дали и Магритта), а также всяческие «исты». Не трогают они меня. Я сама по себе, они сами по себе. Просто есть картины, которые крючочком цепляют за сердце, и тогда от них трудно отойти. Вот эти «цеплялки» для меня — мерило моей любви к художнику. Я не настолько умна, чтобы разбираться в том, что хочет сказать Миро своими многоножками или Поллок — мотками колючей проволоки. Я за реализм. Я за понятность. Я за «цеплялки». Живопись призвана пробуждать в человеке лучшее. Простите за банальность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
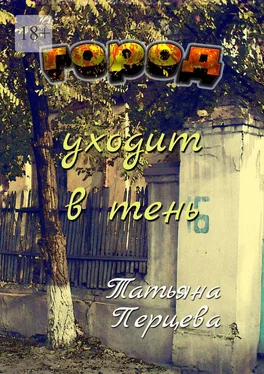
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/30532/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si-thumb.webp)

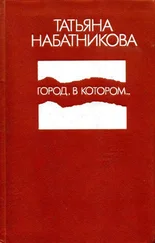
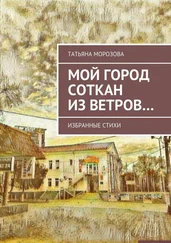
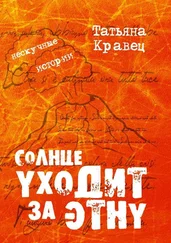
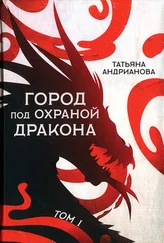
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/410082/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk-thumb.webp)