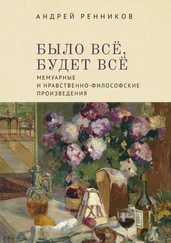Из всех этих жертвователей наибольшим умом и сознанием того, что они делают, обладали, конечно, евреи. Неумелая политика российских правительств в еврейском вопросе ничего другого, как революционизирование еврейских масс, дать не могла. Ожидать лояльности от подданных, которых делают гражданами второго сорта, едва ли было логично.
И если кем надо было по справедливости возмущаться в те времена, то вовсе не революционными меценатами Лесиными, Животовскими и Гринбергами, a теми полноправными истиннорусскими людьми, которые обладали огромными состояниями, от своего государственного строя ничего кроме хорошего не видели, и в то же время на противодействие революционной пропаганде не пожертвовали ни гроша. Чтобы не огорчать упреками их самих, если они еще живы, или их детей, влачащих жалкое существование в эмиграции, не будем называть имен. Но сколько было в России таких патриотически настроенных магнатов, владельцев необозримых латифундий, богатейших купцов и промышленников, перед которыми Животовские, Гринберги, Гликманы казались бедняками? И кто из них пожертвовал что-либо на развитие и усиление национальной печати? Кто открыл хотя бы одну большую правую газету с привлечением опытных и солидных сотрудников?
Знали мы немало счастливых держателей русского золота, по направлению правых, иногда титулованных, иногда даже с двумя титулами одновременно; знали именитых купцов, с первогильдейскими именами. Те и другие частенько отдыхали заграницей. Одни – устраивали в Париже оргии с первоклассными кокотками, метали перед ними жемчуг для демонстрирования широкой русской натуры; впоследствии, в эмиграции, писали даже об этом мемуары во славу русского имени. Другие – везли свои миллионы в Монте-Карло, проигрывали их в рулетку, чтобы впоследствии за эти подвиги получать пенсию от Монакского княжества.
A Животовские, Лесины, Гринберги тем временем жертвовали, жертвовали. И в конце концов, сделали из упомянутых патриотов достойные жертвы.
Развивая свою деятельность, оппозиционная и революционная печать успешно обрабатывала русское общество.
В представлении передовых интеллигентов патриотизм стал уже понятием опасным и вредным, тормозом в движении страны к лучшему будущему. Слово «патриот» приобрело неприличный характер, употреблялось только в кавычках, как символ чего-то презренного. На каждого политически-правого наклеивался ярлык черносотенца; каждый консерватор был зубром.
Имея в Государственной Думе, в земских и во многих городских самоуправлениях большинство, радикальная интеллигенция постепенно становилась главной моральной силой России.
При расслоении прежних сословий включила она в себя представителей разных классов – от аристократов до выходцев из крестьянской среды. При ослаблении монархической власти естественно считала себя преемницей правящего слоя, готовя кандидатов в руководители российской политики. И какие блестящие перспективы рисовались интеллигентам в их мечте о будущих временах, когда из оппозиции перейдут они к творческой работе по созиданию новой России, когда вся законодательная и исполнительная власть перейдет в их справедливые руки!
Это должно было быть замечательным зрелищем. Историческим фейерверком таланта, знания, опыта, высочайших идеалов – на показ всему цивилизованному миру.
И, как мы помним, подобное время обнаружения талантов пришло скоро: уже через несколько лет.
Нужно, однако, воздать должное нашей интеллигенции той эпохи – и правой, и левой: не по политическому признаку, а по моральным качествам это была самая благородная и лучшая интеллигенция в мире. Точнее говоря, она вообще оказалась единственной в своем роде, так как нигде на Западе образованные люди не объединялись в такой своеобразный внесословный и внепрофессиональный класс.
В главной массе своей интеллигенты были прекраснодушны, идейно-честны, возвышенны в мыслях. Впитав в себя широту и глубину православного мироощущения, они, даже будучи не православными и даже неверующими, стремились к осуществлению демократических идеалов не в западном смысле – для пользы и удобства свободных граждан, – а с некоторым религиозным оттенком, делая из свободы, равенства, братства догматы социально-морального свойства. Поэтому и в речах своих нередко казались они не простыми представителями той или иной партии, a миссионерами, а на банкетах, стоя перед чашкой с кофе и рюмкой с коньяком говорили так, будто произносят слово с амвона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
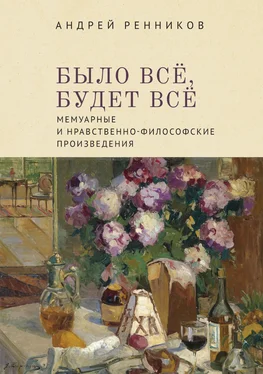
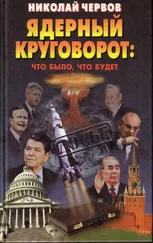

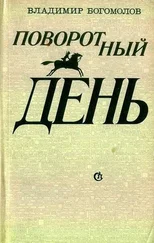




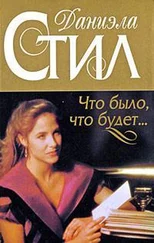

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)