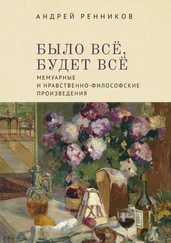– Господа! Мы, новые поэты, плевать хотим на вас и вообще на всю публику!
Трудно передать те овации, которые явились ответом на эти проникновенные слова оратора. Только несколько человек смущенно улыбалось, принимая выступление Маяковского за милую шутку. Все же остальные бешено аплодировали, ревели от восторга и даже кричали «бис». Чувствовалось, что контакт между эстрадой и зрительным залом установлен вполне и что русская интеллигенция всей душой идет навстречу своей новой литературе.
Подобный контакт наблюдал я в те же времена и на выставках художников-футуристов или кубистов. Одна выставка носила поэтическое название «Ослиный хвост»; другая, наоборот, название строго-научное, кубистическое: «0-10». Нужно было видеть то священное благоговение, с которым утонченные интеллигенты обходили залы с картинами Бурлюков и прочих мастеров «Ослиного хвоста», останавливались перед полотнами и старались среди разноцветных мазков и наудачу разбросанных контуров отыскать «Автопортрет», «Натюрморт» и «Ночь на Волге».
A после подобных литературных вечеров и художественных выставок тех же изысканных интеллигентов можно было встретить ночью в кабачке «Бродячей собаки», где новая литература и новая живопись заедались севрюжиной с хреном.
«Русский народ иногда бывает ужасно неправдоподобен», – говорил Достоевский. Но это едва ли верно по отношению к простому народу. И рабочие и мужички были очень правдоподобны, знали, чего хотят. А вот интеллигенция, действительно, отличалась некоторым неправдоподобием. В мечтах своих металась от богоискательства к марксизму, от конституции к футуризму, от футуризма к севрюжине с хреном; была идейна, любвеобильна, образована, даже умна.
Однако, умна как-то странно. Приблизительно так, как это в несколько грубой форме определил толстовский мужик:
– Барин наш человек умный, но ум-то у него дурак.
Перед самой войной работы у меня в «Новом времени» было много. Кроме писания очередных фельетонов и рассказов, приходилось редактировать в газете «Отдел внутренних известий», в котором печатались корреспонденции со всех концов России и провинциальная хроника. Попутно с этим редактировал я и литературно-художественный журнал «Лукоморье», открытый по моей инициативе издательством А. С. Суворина.
Вся эта работа была интересной, но «Отдел внутренних известий» иногда тяготил. Не потому, что было лень им заниматься, а потому, что в присылавшихся корреспонденциях с мест часто затрагивался вопрос о положении русской деревни, о земских нуждах, о сельскохозяйственной экономике, – а к занятию этим у меня не было склонности. Всю молодость свою посвятив математике, астрономии и философии, я как-то не успел ознакомиться с мелкой земской единицей, с чресполосицей, с Крестьянским банком и прочими мало интересовавшими меня вещами. Да и практически я русскую деревню совсем не знал. Детство свое провел на Кавказе, в студенческие годы жил исключительно в городах, летом к родственникам или к знакомым помещикам не ездил. И потому для меня русский крестьянин был каким-то таинственным незнакомцем, о котором справа и слева мне рассказывали много легенд, но которого я лично видел очень редко, главным образом тогда, когда он со своей телегой появлялся на городских улицах.
Подобное невежество, конечно, меня угнетало, но все же не приводило в отчаяние. Я утешал себя мыслью, что многие горожане-интеллигенты, не только правые, но даже левые, и даже народники, и даже социалисты-революционеры, были в таком же положении как я. И, действительно, едва ли многие петербургские и московские журналисты из левого лагеря, особенно из профессоров, писавшие статьи об ужасном положении крестьянства, знали это крестьянство лучше меня.
Да и когда нам, горожанам-интеллигентам, занятым своим повседневным делом, можно было ознакомиться с загадочным крестьянским племенем, которое на выставки футуристов не ходило, в славянофильских кружках не участвовало и на заседаниях религиозно-философского общества не присутствовало?
В общей массе своей знали мы мужичка главным образом по литературным типам: Хорь и Калиныч, Касьян с Красивой Мечи, Аким из «Власти тьмы», персонажи из «Деревни» Бунина. Затем стихотворения: «Что ты спишь, мужичок», «Ну, тащися, Сивка»…
А, вдобавок к этому, наблюдали мы деревню из вагона железной дороги. Мощный локомотив экспресса несет изПетербурга или из Москвы к далеким окраинам. Кругом – зимние снежные равнины. Или летние золотые поля. Вдали, там и сям – деревушки, солома на крышах, высокие журавли колодцев, серые стога сена. За один, два дня переезда, возле железнодорожного полотна смена почвы, на которой зиждется народное хозяйство: песок, чернозем, суглинок…
Читать дальше
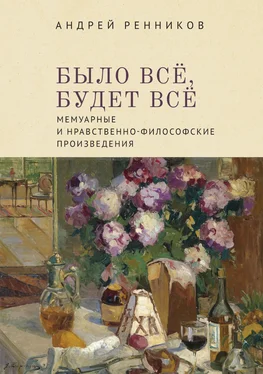
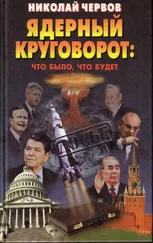

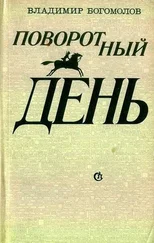




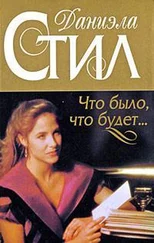

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)