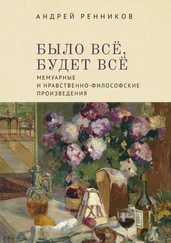И, как результат этого, наряду с церковной религиозностью появилась религиозность лаическая, основанная на безцерковном признании высшего Разума: деизм.
Представители деизма – Шефтсбери 319 319 Граф Энтони Эшли Купер Шефтсбери (Anthony Ashley Cooper, 3 rd Earl of Shaftesbury; 1671-1713) – английский философ, писатель, политик.
, Матвей Тиндаль 320 320 Матвей (Мэтью) Тиндал (Matthew Tindal; 1657-1733) – английский писатель, философ-деист.
, Вольтер, Руссо, некоторые энциклопедисты, – основываясь на достижениях науки, преклоняясь перед наблюдаемой в природе закономерностью, признавали первопричиной мирового порядка Божество, но Божество без христианского Промысла, не вмешивающееся в предустановленную связь причин и следствий. Это еще не был атеизм; и христианское понимание Бога значительно искажалось тут признанием только одной стороны Его сущности – Разума. Вольтер, например, отрицавший христианскую Церковь и признававший только «религию разума», отрицал в то же время и атеизм, считая, что он противоречит проявлениям разумности в мире.
Однако, достаточно от Бога отделить этот последний атрибут Разума и перенести его на природу в качестве рассудочных функций – и деизм превращается в материализм. Энциклопедист Гольбах в своей «Системе природы» установил «евангелие материализма», в котором мысль сводил к движению материи, нравственность – к чувству самосохранения, a понятие Божества во всякой возможной форме религии отрицал совершенно. Кабанис проповедовал материализм психологический, истолковывая душевные явления как особый вид движения материальных частиц. Затем, уже в 19-ом веке, огромное влияние оказал на общественную мысль Бюхнер, изложивший свою систему материализма в «Силе и материи». Не меньшее значение для разложения европейской духовной культуры имел и Молешотт, стяжавший успех и у нас, в России, в шестидесятых годах, в печальную эпоху нигилизма. С увлечением знакомилась широкая публика и с «Жизнью Христа» Давида Штрауса, отрицавшего чудеса, как незаконные перерывы в ходе явлений природы, отвергавшего все христианские догматы, как искусственные построения религиозной мысли.
И среди этих всех новых «учителей» цивилизованного общества, разумеется, – Карл Маркс, Энгельс и вся дальнейшая цепь социал-демократических проповедников, в своем атеистическом историческом материализме подтачивавшие не только религию, но и вообще все ценности духовной культуры, низводя их к производным функциям от экономических факторов и социальной борьбы.
Естественно поэтому, что при подобном отрицании религии и особенно Церкви, —сама теоретическая наука снисходительно взялась за задачу определить: что такое религия. Научная социология и этнология, разумеется, должны были считаться с фактом всеобщего существования религиозного чувства; но, следуя своему позитивному методу, все эти чувства стали сводить к причинам психологическим вторичного свойства, как быть, мифы и нравы. Вспоминая древнее изречение, что «страх создал богов», Шлейермахер нашел в религиозных верованиях только «проявление абсолютного чувства зависимости». Спенсер происхождение религии объяснял «страхом перед духами умерших». Макс Мюллер перенес определение в область интеллектуальную: «религия есть способность ума, которая независимо от чувств и разума удовлетворяет человеческое желание познать бесконечное». Тейлор ограничивается только анимистической стороной: «это верование человека в духовные существа».
Нельзя сказать, что наука в своих определениях религиозной потребности человечества дала много глубокого. Как исключение мы встречаем убедительную характеристику этого неистребимо священного свойства души у психолога Вундта: «Религиозное чувство есть общее свойство человеческого рода… Религиозные представления получили в сознании народов такую определенную форму, что своей живостью едва уступают представлениям чувственного восприятия».
Однако, даже такие правдивые признания ученых в универсальности религиозного чувства не позволяли науке идти дальше и умозаключать от существованья веры к бытию самого объекта этой веры – к бытию Бога. Для науки XIX века такие умозаключения не имели цены, так как ее экспериментально-логический метод исследования был совершенно иным, чем метод познания путем религиозного опыта.
Приблизительно в таком же положении, как наука, оказалась по отношению к религии и западная философия той же эпохи. Христианское мироощущение еще сохранялось у Канта, у которого все религиозное и нравственное было перенесено в область «практического» разума и должно было познаваться вне категорий рассудка, ибо теоретически разум при подобных крайних вопросах бытия запутывается в противоречиях антиномий. Явно религиозным настроением проникнуты, например, следующие слова Канта: «Есть две вещи, наполняющие нас все большим благоговением, чем больше мы ими занимаемся – это звездное небо над нами и внутренний закон в нас».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
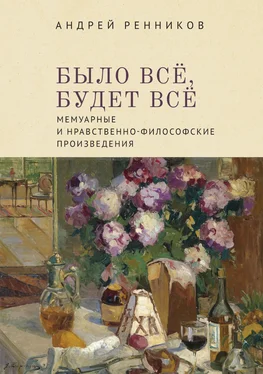
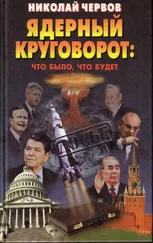

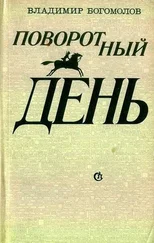




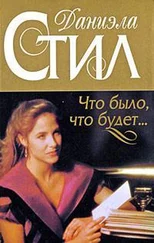

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)