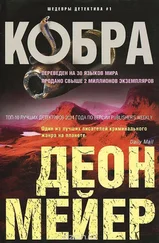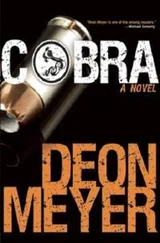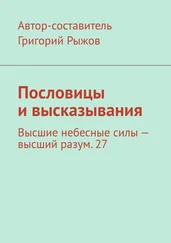Он прислонил велосипед к ограде садика, и тут дверь дома открылась.
— Входите и закройте калитку. Не то чтобы здесь воровали, просто не стоит искушать дьявола.
Она была точно такой, какой он представлял ее себе по описаниями Элизабет: полная и высокая женщина с удивительно гладким для ее возраста лицом, седые волосы расчесаны на прямой пробор, заплетены в косы и уложены колечком на висках, розовые скулы, строгий голос с оттенком властной грубости, одета в серое и черное, на плечах ажурная шаль из белых ниток. Артур вкатил велосипед в сад, где цвели анемоны и душистый горошек. Над дверью соединялись свисающие грозди двух глициний. Одноэтажный дом из бежевого туреньского камня, с крышей, покрытой анжерским шифером, с двумя окнами на фасаде, обрамленными плетистыми розами, ничем не отличался от других домов в поселке Сен-Лоран-на-Луаре. Проехав на велосипеде от Лез-Обре, где останавливался парижский поезд, он вдоволь насмотрелся на десятки таких же домишек, исполненных скромного очарования, нежно обступающих церкви, на берегу большой реки, текущей через память Франции.
— Вы обедали?
— Выпил пива и съел сэндвич в Клери.
— Я так и думала. Вас ждет закуска. Элизабет в Блуа. Просвещается. Вчера была в Шенонсо.
Закуска дожидалась его под стеклянным колпаком в кухне. Женщина поставила перед Артуром голубую тарелку, серебряные приборы и кувшин красивого золотистого белого вина.
— Это «Рошо-Муан», — сказала она. — Если у моего отца были неприятности, он откупоривал бутылку и напевал:
Когда на мадам Жозефину
Находит кручина
Она наливает сухого…
Что ж здесь плохого?
Красивый голос был слегка тонковат для такого роста и видимой силы. Она налила и себе и повращала вином в бокале, прежде чем пригубить и прищелкнуть языком от удовольствия.
— Мадам Жозефина — это, конечно, императрица. Ее было легко утешить. Паштет мой, домашний. Хлеб деревенский. Здесь живут, ничего не прося у остального мира.
— Мудро.
Она достала из холодильника миску с клубникой и горшочек со сливками.
— Ягоды с грядки,
Сливки из палатки…
Здесь все говорят стихами со времен Ронсара.
— Я редко испытывал столько удовольствия от того, что я француз, — ответил Артур.
Они перешли в гостиную — слишком громкое слово для этой комнаты, загроможденной широким канапе и двумя глубокими креслами. На станке был неоконченный ковер. Часть стены покрыта фотографиями: Элизабет во всех возможных возрастах и в многочисленных ролях, за исключением психопатки, излеченной психиатром известным нам способом. Знала ли Мадлен об этом эпизоде в жизни своего «ребенка»?
— Хотите отдохнуть? Вы, наверно, устали, отмахав тридцать километров от Орлеана.
— Никогда мне не было так хорошо.
Она села за станок, распутала клубок шерсти и надела очки.
— У меня, кажется, начинается катаракта. Элизабет хочет сделать мне операцию в США. Хорошенькое дело… словно у нас во Франции нет хороших врачей. Смотрите на фотографии? Тут вся ее жизнь… в общем, то, что она позволяет мне о ней знать. У меня есть альбомы, если вам это интересно. Она-то приезжает раз-два в год, по меньшей мере, у меня хоть это перед глазами.
Элизабет в плиссированном платьице с оборками сидела верхом на барашке на колесиках между отцом и матерью, на лужайке перед домом с колоннами. Год спустя родители погибли, и девочка держала за руку Мадлен, тогда молодую упитанную девушку, одетую явно в обноски мадам, в фетровой шляпе с пером, сдвинутой набок.
— Будь я одна, никогда бы так не вырядилась. Опекунский совет непременно требовал, чтобы я не была похожа на няню. Зато они позволяли мне делать с Элизабет, что угодно. Если бы они знали…
Они медленными шажками продвигались навстречу друг другу. Артуру казалось смешно, что эта женщина разглядывает его с такой осторожностью, ее маневр бросался в глаза. Хуже всякой ревнивой мамаши. Со своей стороны, Артур следил за ней: в деле, ради которого он приехал, она играла свою роль. Он не думал, что она строит козни, просто хочет защитить большого ребенка, которого ей доверили. По старой привычке он стал искать книги, которые бывшая гувернантка могла держать при себе. Он ничего не увидел. Все зиждилось на ее здравом смысле и на уверенности в том, что она принадлежит к породе, наделенной врожденным жизненным умом. Это была скала. Из фотографий нельзя было узнать ничего, что было бы ему неизвестно: элегантные и дерзко красивые родители, девочка с круглыми щеками, как у куклы, с ужасно серьезным взглядом, с бантом в волосах, худенький подросток с лицом, лучащимся иронией, потом девушка (или женщина), позирующая как манекенщица, полуобнаженная на софе с расцветкой под леопарда. Наконец, актриса и совсем недавний снимок, в «Ночи игуаны». Всегда одна, без мужчины, который обнимал бы ее все эти долгие годы борьбы с общими местами.
Читать дальше