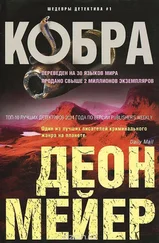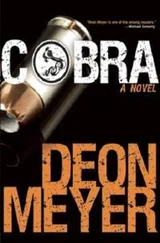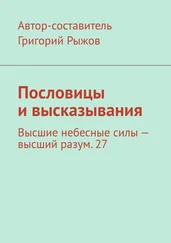— Ты правда не хочешь поехать? — спросила Аугуста, притопывая ногой о тротуар.
Печаль стиснула Артуру горло. Он отдал бы что угодно, чтобы поехать с ними, но чего угодно у него не было.
Снежинки цеплялись за брови Аугусты, таяли и стекали по щекам, словно слезы.
— Ты думаешь, что я плачу, да?
— Нет, никогда бы так не подумал…
— Жетулиу все устроит, чтобы ты приехал как-нибудь на выходные.
— К тому времени я раздобуду денег.
Наклонившись, чтобы поцеловать Аугусту в щеку, он взял ее за левую руку, надавив большим пальцем на ладонь в месте, не прикрытом перчаткой. Она поняла и ответила мимолетным пожатием. Более эмоциальная Элизабет обхватила шею Артура руками и запечатлела поцелуй у него на губах.
— Знай, что тебя любят, мой мальчик… Совершенно беспричинны. И слава Богу! Это и есть любовь! Совершенно дикая! Не изменяй нам!
Он остался стоять на тротуаре, пока машина не скрылась из виду. Чья-то рука помахала за задним стеклом. Наверное, Аугуста. Или только показалось? Снег валил все гуще и гуще.
Мысли о них преображали жизнь в университете. Воспоминание о шести днях на «Квин Мори», об их шумном приезде в Бересфорд и о странном отъезде, замутненном снегом, связывало прошлое с настоящим. Артур теперь был не один. Две нимфы, черненькая и беленькая, весело сопровождали его по жизни. На самом деле никогда он не был так весел, как когда терзался тысячей сожалений из-за того, что не смог поехать с друзьями в Нью-Йорк, Дне недели в Бостоне у О’Конноров пролетели, как один миг. Трогательная страсть, с какой родители хотели, чтобы их пятнадцатилетний сын заговорил по-французски, их интерес к Франции и некое уважение, которым они окружили Артура, словно он был юным послом торжествующей нации, а не побежденной страны, раздираемой гражданской войной, — все сошлось, чтобы ослабить его сожаления.
Когда в январе возобновились занятия, он окунулся в работу. Жетулиу на несколько дней опоздал и отказался давать объяснения, словно сильные мира сего незаконно его задержали, чтобы его гений помог им решать международные проблемы. Он охотно поддерживал подобные тайны, производившие впечатление на американских студентов и оставлявших Артура безразличным. Случай распорядился так, что университетская библиотека поручила французу перевести ряд статей, опубликованных в университетском журнале. На гонорар можно было выбраться на выходные в Нью-Йорк. Артур сообщил об этом Жетулиу в надежде, что бразилец отвезет его на машине. Увы… Пустившись в путаные объяснения, Жетулиу вдруг признался, что «Корд-1930» уже не в гараже, а в металлоломе, с самого Рождества. По дороге в Нью-Йорк он заснул. Никто из них троих не пострадал, и они много смеялись.
— Ничто так не веселит, как смерть, когда она промахнется, — сказал Жетулиу. — Хочется повторить, как после пасса мулетой. Мы поедем на поезде вместе с лавочниками. С ума сойти, что можно узнать в купе поезда.
Егo умение жить с трогательной виртуозностью преображало поражения в победы. Когда, выйдя из поезда на Большом Центральном вокзале, Жетулиу не увидел на перроне сестры, он вспомнил, что она терпеть не могла органной музыки, которую одна очаровательная старушка с двойным подбородком, одетая в черное и с каким-то соломенным тазиком поверх шиньона, уже двадцать лет низвергала на уезжающих пассажиров.
Бах для клавесина, для флейты, для фортепиано, для скрипки — от этого Аугуста сходит с ума, но Бах для органа вызывает у нее истерику. Пойди пойми, почему.
Артур жил в скромном отеле на Лексингтон-авеню. Выразив свое неодобрение, Жетулиу пообещал зайти в восемь часов, чтобы поужинать. Пришла Элизабет:
— Кажется, Аугуста заболела. Ничего страшного! Не делай такое лицо! Жетулиу остался с ней. Тебе повезло: сегодня вечером я свободна.
Что-то в ней изменилось. Он не сумел бы сказать, что именно, и возможно, это ощущение было всего лишь вызвано тем, что в старом приталенном плаще, с беретом десантника на голове, она показалась ему не такой женственной, как на Рождество. В траттории в самом центре Гринвич-Виллидж, куда она его затащила, Артур понял, что Элизабет оказала ему особую честь, приподняв завесу над своей другой жизнью. Нью-Йорк был для нее не местом бесстыдных светских развлечений избалованного ребенка, а наоборот, средоточием ее единственной настоящей страсти — театра. Театра, избавлявшего ее от давления среды.
На первом этапе своего обращения в иную веру Элизабет переехала с 72 улицы на Пятую авеню и жила теперь в однокомнатной квартире, расположенной, кстати, над той самой тратторией, где они ужинали, — местом встреч множества творческих людей из Гринвич-Виллидж, чем и объяснялось, что она знала почти всех за соседними столиками, раз десять целовалась со вновь прибывшими и столько же раз — с уходящими. Она уже несколько недель содержала горстку безработных артистов и искала зал, который, как она объясняла довольно сложно, был бы не таким залом, где зрители и актеры изображали бы друг перед другом пародию на жизнь, а местом, где они сотрудничали бы в драматизации пьесы.
Читать дальше