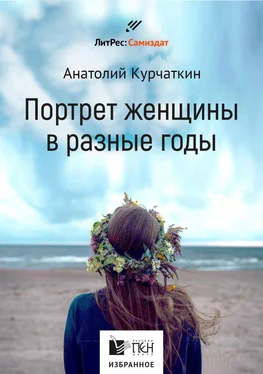– Нет, знаете – сказал Борец, когда, отягчившись десертом, все разошлись по кабинету, расселись по стульям, креслам и официант удалился, – продолжая разговор, неожиданно возникший по дороге сюда. – Меня, конечно, эта бедность вокруг тоже угнетает. Я, когда еще жил в муниципальном доме, хотел, чтобы в подъезде было все чисто, чтобы цветы на площадках стояли, ароматизатором чтоб прыскали. Ремонт сделал, консьержку нанял – никому ведь платить не надо, ничего! И что?
– Что? Да, что?! – словно в предвкушении близкой развязки анекдота, с веселостью вопросили Казак с Горцем.
– Естественно что! – с ответной веселостью, как и прямь рассказывая анекдот, отозвался Борец. – Все стены тут же разрисовали, цветы побили, кодовый замок выломали, пацанва стол консьержке дерьмом вымазала. Ничем не дорожат, ничего не берегут! Я не против был жить в муниципальном, мне район нравился, но ведь нельзя! Никак нельзя, невозможно!
– Да нет, о чем говорить. Конечно, невозможно! Никак нельзя жить вместе со всеми, – дружно согласился с ним кабинет.
А когда общий хор смолк, Пьер через паузу счел необходимым добавить:
– Плебс! Что с него возьмешь. Сами ничего не имеют, ничем не дорожат и хотят, чтобы все вокруг такими же были.
В гостиной в это время женщины вели разговор о детях.
– Нет, не может быть речи ни о каком детском саде, ты что, с ума сошла? – говорила жена Казака жене Борца. Голос ее был исполнен кипящего гнева. – Чтобы кто-то уродовал личность ребенка? Извините! Если бы не было другого выхода, не хватало денег, чтобы нанять людей, которых ты контролируешь от «а» до «я». Слава богу, есть такая возможность, о каком детском саде ты можешь думать?
– Нет, ну чтобы обретал навыки общения со сверстниками – оправдывающимся тоном отвечала жена Борца. – А деньги что? Что, жалко их, что ли? На собственного ребенка! – Ей было неприятно оправдываться, она завидовала жене Казака, как та умеет гневаться, и, не владея этим искусством, сорвала себя в возмущение.
– Только в подготовительную группу часа на два, хоровод поводить, хором попеть – и все, не сверх того. – Жена Казака знала, что, когда гневается, у нее ярко и чисто загораются ее высокие острые скулы, и этот румянец ей идет – никакая косметика не даст такого эффекта.
Жанна слушала их, и ее больно, всю внутри словно выкручивая жгутом, раздирала зависть к обеим. Они устроили свою судьбу, поймали удачу, жизнь их была ясна и проста. В отличие от ее жизни. Она чувствовала, что в Пьере назревает желание дать ей отставку. Боялась этого и не знала, что предпринять, чтобы этого не случилось. Напускала на себя вид, что все у них, как и раньше, капризничала на каждом слове, что ему, знала, ужасно нравилось в ней прежде, – и видела с отчаянием: все без толку.
– Ой, девочки, у меня с детским садом такой смешной случай связан, – начала она – чтобы не выпадать из общей беседы, хотя ее так и выворачивало от того трепа, что вели жены Казака с Борцом. Клуши. Настоящие, большие клуши. Почему клушам так везет в жизни? – Я помню, ходила тогда в среднюю группу…
– Жалко, что Надин не приехала, – не обращая на ее слова внимания – словно она и не раскрывала рта, – проговорила жена Казака. – Куда их понесло, интересно, если они сюда не приехали?
– В Швейцарию их понесло, на катере по Женевскому озеру кататься, – сказала жена Борца. – Ты же знаешь Муза, он любит на уик-энд в Европу смотаться.
– Да, Муз умеет делать такие подарки. – Теперь зависть отчетливо прозвучала и в голосе жены Казака. – В отличие от наших с тобой.
Жанна, улыбаясь, сидела с бесстрастным видом, ела мороженое с клюквенным соком, ложечка в вазочку – ложечка в рот, ложечка в вазочку – ложечка в рот, словно бы хамство жены Казака ее ничуть не задело. Паршивые клуши, стучало в ней, паршивые клуши! И эта жена Музыканта, их Надька, такая же клуша, ничем не лучше.
Ночью в постели, принимая в себя Пьера, она старалась так, чтобы челюсть у него от полученного блаженства целый день провисела бы на груди. Ну, ты у меня баба, ох, ты у меня баба, повторял он восхищенно, выливаясь в нее очередной раз. Достичь чего стоило изрядных трудов и искусства – сам он был мужиком, вызвать восхищения никак не способным.
На рассвете Жанна проснулась от пения соловьев, проникавшего в комнату даже сквозь плотные стеклопакеты. Пьер лежал рядом на животе, тяжело положив ей на ноги свою ногу, нос у него заложило, и он с бульканьем, надрывно сопел им. Она осторожно высвободила из-под него ноги – он не проснулся, – встала, прошла к окну и так же осторожно, как вставала, открыла его. Соловьи ворвались в комнату оглушающим хором. Их было пять-шесть-семь. Это был настоящий симфонический оркестр. Жанна стояла, слушала их, и в голове стучало: неужели не повезет? неужели не повезет?!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу