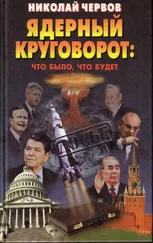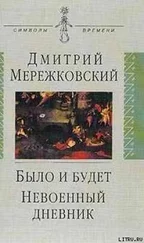Было хорошо лежать на спине, смотреть в небо и чувствовать под собой мягкую, прохладную в тени траву. Мелкие облака плыли по ветру и при долгом, неотрывном взгляде на них начинали приближаться, спускаться вниз, и Марине Николаевне казалось, что еще немного, и они коснутся, скользя, лица ее и глаз. Она переставала понемногу воспринимать течение времени и уже затруднилась бы ответить — сколько его прошло? Десять минут, час? Вдалеке загудела машина, Павел исчез, а она даже позу не изменила.
— Нет, — сказал он, вернувшись. — Не туда.
— Вот и прекрасно, — пробормотала Марина Николаевна. — И не надо. Я тут остаться хочу. Я тут живу теперь.
— Вообще, можно было бы палатку взять и пожить где-нибудь на реке вдвоем. Жаль, в голову не пришло.
— Не важно, — сказала Марина Николаевна. — Все равно. Иди ко мне…
Она сама обняла и поцеловала Павла с такой внутренней свободой и естественностью, которой никогда не испытывала, бывая с ним в его квартире. Ей казалось, что эти молодые дубки, эта бузина, эта высокая, густо-зеленая трава есть самое укромное и спокойное место на свете.
— Нет, — сказал Павел, отстраняясь. — Дорога же рядом.
— Ну и что, — не отпускала она его. — Мы здесь живем…
Они заснули почти одновременно и спали до тех пор, пока тень от дубков не сместилась и не открыла их солнцу. Очнувшись, Марина Николаевна никак не могла понять, где она, но присутствие Павла ее успокоило. Все хорошо, раз он рядом…
Во рту пересохло, очень хотелось пить, и, увидев арбуз, Марина Николаевна даже вскрикнула от радости.
— Вставай! — затормошила она Павла.
Едва он успел срезать с арбуза верхушку, как послышался шум мотора. Павел вскочил, но она схватила его за руку:
— Не надо! Пусть едет себе!
— Так мы до завтра здесь проторчим!
Он побежал к дороге, а она, не в силах удержаться, отрезала от арбуза огромный кусок и, спеша, захлебываясь и обливаясь соком, стала есть. Ей казалось, что никогда в жизни она не испытывала от еды большего удовольствия.
— Едем! — крикнул появившийся Павел. Она замерла с набитым ртом.
— Быстро! — Он поднял с земли чемодан и сумку. — Давай, давай!
Она встала, держа арбуз в руках.
— Да брось ты его, господи!
— Нет, — невнятно промычала она, глотая арбузную мякоть. — Не брошу. Не могу!
— Нелепо же начатый с собой тащить!
— Ну, и пусть! Все равно не брошу!
Обняв арбуз и со смехом оглядываясь на Павла, она поспешно пошла к машине.
— Вот это да! — весело крикнул шофер.
— Понимаете, только разрезали, а тут вы! Жалко же бросать!
— Бросать?! — возмутился шофер. — Такое добро в такую жару?! Смертный грех.
— Может, съедим его сейчас, если вы не спешите? — просительно улыбнулась Марина Николаевна.
— А хоть бы и спешил! Разве можно отказаться? Давайте, вон, в сторонку отойдем. Целый день воду хлещешь, а от этого только больше пить тянет. Я как раз подумал, вот бы чего такого… А тут вы. Удачные пассажиры, нечего сказать!
Марина Николаевна повернулась к стоявшему рядом Павлу и подмигнула ему. Вот так-то, мол!
Арбуз съели быстро, почти молча, чтобы не отвлекаться от дела. Марине Николаевне было очень забавно смотреть при этом и на Павла, и на шофера, она чувствовала, что целый шар смеха все растет и растет у нее в груди и вот-вот прорвется, лопнет. Этого никак нельзя было допускать (еде помеха!), и она терпела изо всех сил.
Первым встал, тщательно вытерев руки о траву, шофер, поправил ремень, подбоченился и притопнул:
— Вот ба свадьба, выпить да сплясать ба!
И так это у него живо, ловко, лихо выговорилось, что Марина Николаевна наконец-то дала себе волю и захохотала, припав к коленям, а потом и вовсе завалившись на бок, на землю. Она смеялась до судорог, до страха перед своим же хохотом, который было не унять.
— Ох, не к слезам ли… — услышала она голос шофера, и это ее отрезвило.
Всхлипывая и задыхаясь, она встала на ноги. Лицо у нее и впрямь было залито слезами, и пришлось доставать носовой платок и вытирать их тщательно.
Этот безудержный, судорожный хохот оставил у Марины Николаевны странное впечатление. Он словно бы и успокоил, освободил ее от чего-то лишнего, мешающего, и было в нем одновременно нечто темное, жутковатое…
Шофер оказался словоохотливым и не умолкал всю дорогу. Его лицо было морщинистым, до черноты сожженным солнцем, и тем поразительнее выделялись на нем голубые, яркие, горящие наивным, детским весельем глаза.
— Вы чьи же будете? — спросил он, едва машина тронулась. — Что-то я таких у нас не знаю.
Читать дальше