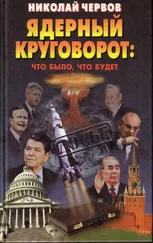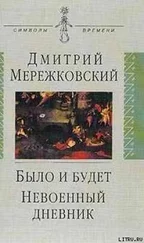— Что с тобой? — спросил он наконец.
— Все хорошо.
— Потому и помалкиваешь?
— Потому, потому… — Она в упор взглянула на него и сама почувствовала, какие у нее яркие, блестящие глаза. — Слушай, а я ведь и не знаю толком, куда мы едем, надо же! Просто смех! Как-то и в голову не пришло спросить, словно это для меня никакого значения не имеет. А, в общем-то, не имеет, конечно. Какая разница, лишь бы с тобой.
— Так что же, объяснять? — улыбнулся Павел.
— Да уж объясни, если не трудно.
— Едем мы в деревню Никольское к моему бывшему пациенту. Очень в гости приглашал, хоть одного, хоть с семьей. Места, говорил, прекрасные — река, лес, рыбалка, грибы-ягоды. Ну, вот я и решил к нему наведаться, и договорился. Он заведующий отделением совхоза, живет просторно. Уверял, что не стесним. Удовлетворена объяснением?
— Вполне. Только один вопрос — кто я для него буду?
— Моя жена, конечно, — пожал Павел плечами.
— Сварливая?
— Да уж какая есть.
Задремала Марина Николаевна совершенно для себя неожиданно. Только что с живым интересом смотрела в окно, разглядывала пассажиров, и вдруг окружающее стало меркнуть, подергиваться серой, неверной дымкой. Она, ища опоры, положила голову на плечо Павла, закрыла глаза и, как под уклон, соскользнула в дремоту. Это было приятно до сладкого замирания в груди. Она продолжала воспринимать и покачивание автобуса, и гул его мотора, и голоса соседей, но все это было теперь приглушенным и далеким. Собственные же мысли и представления усиливались, мелькали стремительно и пестро, складываясь в причудливые узоры и тут же распадаясь. Она словно стояла на грани реальности и сна, и то, и другое теперь равно ей принадлежало. И ей вдруг почудилось, что в ее теперешней жизни есть нечто близкое этому состоянию — тайное и явное, Павел и семья… И к этой двойственности, неопределенности, невесомости душевной, такой только что приятной, стало понемногу примешиваться другое — нехорошее, тяжелое, мешающее… Чувство тошноты, которое возникает иногда на качелях, поднималось откуда-то из глубины, росло, крепло…
Марина Николаевна вздрогнула и очнулась.
— Ты что? — спросил Павел.
— Все бы тебе знать… — Она сглотнула, перебивая тошноту. — Живу я тут.
— Где?
— Вот тут! — Она легонько похлопала ладонью по его плечу и вновь, умащиваясь, приникла к нему.
— Живи, — подмигнул он. — Чувствуй себя как дома.
— Спасибо. А по грибы-ягоды мы будем ходить?
— Непременно.
— А рыбу ловить?
— Обязательно.
— А… А купаться по ночам?
— Этого я вам не обещаю. Забоитесь, думаю.
— Сам ты забоишься… — Она помолчала. — Скажи, если можно, почему вы с женой развелись?
— Все бы тебе знать… Прожили всю свою общую жизнь, только и всего.
— Ты жалел?
— Нет. Я же говорю — прожили. Кончилось все, о чем жалеть? Остался один, думал, плохо будет, а оказалось — хорошо.
— Что ж хорошего? — спросила она с непонятным ей самой раздражением.
— Как тебе сказать? Свободно стало. Нигде ничего не жмет, не давит.
— Эгоист…
— Наверное, — легко согласился он. — Да не в словах же суть. Дочь выросла, никаких долгов у меня больше не было. Вольному воля, так я думаю.
— Хитрый какой!
— Ну, почему же хитрый?
— Потому… Удобств себе ищешь.
— Какие уж тут удобства? Независимость, больше ничего.
— А работу ты свою любишь?
— О господи! — Он вздохнул и рассмеялся. — Все хочешь обо мне сразу узнать?
— Все.
— Как тебе сказать… Любишь — не любишь… Я как-то и не думал так никогда, пожалуй. Работа — жизнь. Любишь — не любишь, а живи. Работай… Постой, постой! — Павел резко повернулся к окну. — Мы ведь приехали уже, кажется. Ну, точно, Горшечное!
— А ты говорил, маленькая деревня! — сказала Марина Николаевна разочарованно.
— Отсюда еще километров десять. Позвоню, машину пришлют.
Горшечное было — сплошная пыль. Автобус остановился на большой, ухабистой, пыльной площади у фанерного, покрытого пылью павильона автостанции. Вокруг росли чахлые, с пыльными обвисшими листьями, деревья, вдаль тянулась широкая пыльная улица с редкими и, казалось, тоже, запыленными, прохожими. Автобус, медленно и развалисто, словно сомневаясь, стоит ли ехать куда-то дальше, ушел, унес с собой городской свой, стеклянный, никелевый блеск, и вокруг осталась пыль, пыль, пыль…
Марина Николаевна давно заметила, что рядом с Павлом окружающее всегда представляется ей интересным. Его присутствие как бы освещало все, делало выпуклым, объемным, с тайной и глубиной. Сейчас же, выйдя из автобуса и осмотревшись, она особенно остро ощутила это. Казалось бы, что безрадостнее и унылее Горшечного? Но ей и здесь все виделось и интересным, и милым. И вездесущая, куда ни посмотри, пыль была хороша, рождая поэтическое чувство какой-то старины, глуши, вневременности окружающего; и зной, сухой, въедливый, был хорош и так славно сочетался с пылью; хороши были и рябенькие куры, тихо, с наивной доверчивостью бродившие у фанерного павильона; хорош был и павильон с тускло горящими на солнце окнами, с подсолнечной шелухой у входа, с банной прямо-таки духотой внутри. Они с Павлом заглянули туда, чтобы узнать, где находится почта. Павильон был пуст, окошечко кассы закрыто, и Павлу пришлось постучать в него. Долго не открывали, но наконец в нем возникло молодое щекастое распаренное женское лицо. И Марине Николаевне понравилось, что женщина выглядела сонной, что на лбу у нее виднелся длинный красный рубец — видно, дремала, положив на стол голову. Такое было в этом лице глубокое, нерушимое спокойствие, что Марина Николаевна даже почувствовала зависть.
Читать дальше