— Какая тут судьба! Ух, попадись мне эта… — пригрозила Евлогия.
— Юродивые, говорят, божьи люди, Ева. Найден не приходил?
— Крыстев предупредил, что зайдет попозже.
Стоил ощупал свою голову.
— Когда я был малышом, меня стукнули в это же самое место, тоже камнем. Мы играли в бабки, какой-то озорник швырнул голыш, и я грохнулся на землю. Самой судьбой было назначено, чтобы это повторилось… — Он заворочался в постели, стал вращать глазами и с внезапной нервозностью заговорил, уставившись куда-то вверх: — Пойми, Бонев, нам с тобой надо смотреть в корень… Раз уж мы установили потолок, значит, нам с тобой есть о чем подумать, есть о чем… И выпусти ты эту чокнутую, пока не поздно… О, что это еще за колокольный звон во время жатвы? — Стоил повернулся к растерянным женщинам, поглядел на них и спросил упавшим голосом: — Кто вы такие?
Позвали сестру, она сделала массаж, приготовила шприц. Через несколько минут Стоил уснул.
Диманка с Евлогией ушли на кухню. Чайник кипел, водяные зернышки с шипением подпрыгивали на поверхности раскаленного металла.
— И часто с ним такое? — со страхом спросила Диманка.
— Иногда, — ответила Евлогия, уткнувшись лбом в холодное окопное стекло.
Переполох среди врачебного персонала, беготня сестер, шипение кислорода и попискивание монитора вдруг оборвались. Поддерживаемая Боневым и Крыстевым, Евлогия услышала щелчки выключаемой в комнате отца аппаратуры, нахлынувшую тишину и с душераздирающим криком, от которого, казалось, раздвинулись стены дома, рухнула на пол. Ее спина судорожно выгибалась, плечи тряслись, словно вот-вот отвалятся. К ней протягивали руки, чтобы утешить, пробовали с нею заговорить, гладили по голове, брызгали водой, но она ничего не слышала, не видела, кроме фиолетовых шаров, которые бесшумно плавали вокруг, и повторяла: папа! папа!..
Когда рыдания и корчи стали неудержимы, пришлось сделать ей укол. Евлогия стала утихать, крики перешли в стоны, она все больше расслаблялась и в конце концов заснула. Ее уложили на диван. Склонившись над ней, Крыстев поправил упавшую ей на глаза прядь волос. Возле нее присела Диманка, она тоже была сломлена горем.
Мужчины вошли к покойному. За несколько часов агонии Стоил изменился до неузнаваемости и напоминал фигуру из Дантова «Ада»: глубоко провалившиеся огромные глазницы, неестественно заостренный нос, неправдоподобно впалые щеки, искусанные синие губы. Над его обезображенным лицом торчали вихры все еще потных волос.
Первым к постели подошел Бонев. Ты жил праведником, а тебя постигла смерть грешника, подумал он, прикасаясь губами ко лбу Стоила, сдерживая дыхание, чтоб не выдать своего волнения. Уже несколько дней его преследовало навязчивое воспоминание о тех невысказанных словах, которыми он предрекал печальную участь Стоила: мы проводим его с музыкой и со знаменами, установим над ним красную пирамидку и забудем его вместе с его идеями… Есть что-то несправедливое в этой жизни, ох, есть. Вчера он написал на следственном деле, чтобы были привлечены к ответственности все виновники затянувшейся переписки по поводу назначения пенсии матери погибшего рабочего. Но что из того — Стоила уже не вернуть, и он теперь не живой, а мертвый пример того, что не умеем мы ценить таких вот людей — чудаков, оптимистов, скептиков, сохранивших себя среди всяких соблазнов и грехов.
Наклонившись, Бонев коснулся губами еще теплого лба: прощай, Стоил!..
И когда выпрямился, в его памяти внезапно всплыло уже другое лицо — массивное лицо Караджова.
О смерти Стоила Караджов узнал из вечерней газеты — его внимание привлекла скромная траурная рамочка на второй странице. И, как бывает в подобных случаях, но поверил своим глазам. Он еще раз медленно прочел некролог и почувствовал, как ток крови замедлился в его жилах: подумать только, это Стоил! Похороны состоялись сегодня утром, в одиннадцать тридцать. А он в это время просматривал телексы, раз-другой к нему заходила секретарша, вот и все. Около двенадцати он решил пойти закусить в Доме офицеров — там он завел знакомства и обстановка ему была по душе. Он прошел в туалет и тщательно вымыл руки, а в это время Стоил лежал в гробу возле свежей, собственной могилы.
У Караджова помутнело в глазах: лежать у собственной могилы — это действительно конец. Неужто подкрадывается время, когда и он, Караджов, протянет ноги у своего двухметрового окопа? Невероятно.
Читать дальше
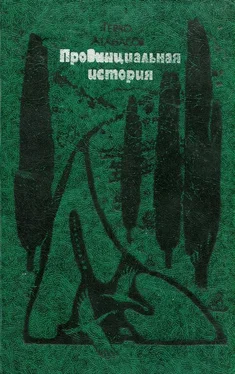






![Екатерина Лесина - Провинциальная история [СИ]](/books/434551/ekaterina-lesina-provincialnaya-istoriya-si-thumb.webp)



