Здесь бы мне лучше остановиться или даже надо было остановиться несколькими строками раньше, где я должным образом прошу у тебя прощения. Я пошлю тебе это письмо в запечатанном конверте, пошлю на имя твоей жены — она может это прочесть и вообще поступить с этим, как ей будет угодно — предаю себя в её руки, — но это такое блаженство, пусть и опасное, после стольких лет выговориться, — я вверяюсь её и твоей доброй воле — некоторым образом это моё Завещание. У меня в жизни было немного друзей, и только двоим из них я полностью доверяла — Бланш и тебе, — и обоих я любила так сильно, но она погибла ужасной смертью, ненавидя меня и тебя. Теперь, когда я достигла старости, я всё чаще с тоскою обращаюсь даже не к тем нескольким ярым, сладостным дням — страсть в моей памяти утратила особость, сделалась страстью вообще, ведь всякая страсть идёт одним и тем же путём к одному и тому же концу, так мне, старухе, теперь кажется, — так вот, я с тоскою обращаюсь (какая же я всё-таки стала околичественная и словообильная!) к нашим давнишним письмам, где мы говорим о поэзии и всяких других вещах и наши души двинулись доверчиво навстречу друг другу — и друг друга признали. Не читывал ли ты, часом, один из немногих несчастных проданных экземпляров «Феи Мелюзины» и не думал ли при этом: «Я знал её когда-то» — или, что даже более вероятно: «А ведь без меня не было бы и этой повести». Я обязана тебе и Мелюзиною, и Майей, и до сих пор не отдала моих долгов. (Я всё же надеюсь, что не умрёт она, моя Мелюзина, какой-нибудь понимающий читатель её спасёт, а ты как думаешь?)
Феей Мелюзиной все эти тридцать лет была я. Это я, фигурально выражаясь, летала по ночам «вкруг укреплений замковых», это мой голос «взвивался на волнах ветра», мой вопль о том, что мне нужно иметь вблизи, вскармливать и лелеять моё дитя, мою дочь, которая меня не знает. Она росла беззаботно и счастливо — ясная, солнечная душа, простая в своих привязанностях и вообще замечательно прямая по природе. Она глубоко и подлинно любила обоих своих приёмных родителей — да-да, и сэра Джорджа, в чьих бычьих венах не текло ни капельки её крови, но который был очарован её пригожестью и добрым нравом — очарован к моему и её вящему благу…
Меня же она не любила. Кому могу я в этом признаться, как не тебе? Она представляла меня какой-то колдуньей, злой одинокой старухой из сказки: старуха глядит на неё сверкающими глазами, ждёт-пождёт, когда она уколет мизинчик о веретено и погрузится в жестокий сон взрослой действительности. А если глаза старухи сверкали от слёз, она того не замечала… Я даже больше скажу, я и теперь наполняю её суеверным страхом, она испытывает какое-то содрогание, разговаривая со мной, — оттого что ей чудится — и правильно чудится! — что мне слишком есть до неё дело, что жизнь её слишком меня волнует, — ведь самое естественное она по ошибке принимает за неестественное и в силу этого зловещее.
Ты подумаешь — если, конечно, после всего этого неожиданного, сообщённого тебе, ты ещё в силах размышлять о моём узком мирке, — что автор причудливых романтических сочинений, подобный мне (или поэт, воспевший поступки людей на театре жизни, подобный тебе), верно, не смог бы устоять и хранить такую тайну без малого тридцать лет (подумай только, Рандольф, целых тридцать!), без того чтобы не проговориться о каких-то жизненных обстоятельствах, не дать какого-нибудь тайного намёка, не подстроить dénouement [196] Развязка (фр.).
, не закончить всё сценой откровения. Но будь ты здесь… ты бы сразу понял, как я не смею этого сделать. Я руководствуюсь её благом — она так счастлива, — не нарушить бы этого счастья. И я думаю также о собственном благе — я боюсь встретить ужас в её честных, прекрасных глазах. Что как я откроюсь ей — скажу правду, — а она отшатнётся от меня?! И потом, я некогда клятвенно заверяла Софию, что в благодарность за её добродеяние я хочу полностью, бесповоротно отойти в тень; без Софии, без её доброй воли и расположения, разве имела бы я приют и поддержку?
Она смеялась и играла, как проворный эльф в «Кристабели», помнишь: «С собой проворный эльф-дитя / Танцует и поёт шутя» (помнишь наши письма о поэме Кольриджа?). Но к книжкам она была равнодушна, совсем равнодушна. Я написала для неё сказки, отдала печатнику и переплела в книжицу. Я подарила ей эту книжицу — она улыбнулась словно ангел и поблагодарила меня и тут же отложила в сторону. Так я и не увидела её за увлечённым чтением этих сказок. Она обожала ездить верхом, стрелять из лука, играла в мальчишьи игры со своими (так называемыми) братцами… и в конце концов вышла замуж за кузена, наведавшегося в гости, с которым кувыркалась в сенных стогах, когда была крохой пяти лет и повсюду бегала заплетающимися ножками. Я желала, чтобы у неё была ничем не омрачённая жизнь, моё желание сбылось — но для меня в её жизни нет места, я нахожусь извне — я просто её тётка, нелюбимая тётка-вековуха…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Обладать [litres] обложка книги](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-cover.webp)

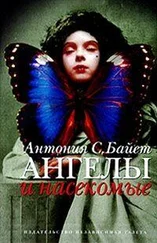
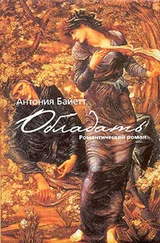

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
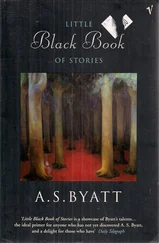
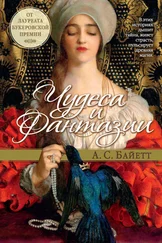

![Антония Байетт - Дева в саду [litres]](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-thumb.webp)
![Антон Генералов - Адъютант [litres]](/books/392622/anton-generalov-adyutant-litres-thumb.webp)