Лашут брел вдоль забора. Задержался у рисунка. Доска вокруг дырки была отполирована многими руками и лбами. Припомнилось Лашуту все, что рассказывалось об этом дворе. А времени впереди еще так много… Эдит приедет только в тринадцать семнадцать. Они вместе уедут в Теплицы. Теперь уж ничто не станет на дороге их счастья.
Лашута подмывало заглянуть в дырочку — ведь никто его не видит. Судья Стратти, беседуя в Гранд-отеле с Голлым, так выразился об этом заборе: нынче, мол, люди открыли в себе способность воспринимать иррациональную сторону бытия. Безработные евреи и вообще люди, интеллигенты вроде Стратти и Голлого, задавались вопросом: каково положение человека, стоящего перед забором, и того, кто стоит по ту его сторону? Этот Машица, если это был он, выразил свою мысль по-свински, но, в конечном счете, верно. В нем, в Лашуте, тоже проснулась способность воспринимать иррациональную сторону жизни — он оглянулся, не идет ли кто, и прижался лицом к забору.
Двор пуст. И все же то, что он смотрит в дырку, приводит Франё в волнение. Меж красных плоскостей теннисных кортов трава бьет в глаза своей зеленью. А больше ничего за забором и нет.
Дальше побрел Лашут. Ночью он набирал сообщение: «Главноначальствующий гарды прибыл в Жилину». Интересно, что-то готовится? Лашут вернулся и снова приник глазом к дырке. И снова ничего не увидел. Земля на дворе плотно утоптана гардистами. И только трава меж красных кортов бьет зеленью по тому единственному оку, что заглядывает во двор. Там, за этим забором, могла бы очутиться и Эдит… И он никогда не увидел бы ее больше.
Лашут отпрянул от забора — словно кто-то швырнул песком ему в глаз, как тому Вернеру. И снова бродил, бродил, останавливался, и во рту у него пересохло — так страстно желал он, чтобы скорее приехала Эдит. Опять вернулся к забору, опять прижался к нему лицом.
А за забором уже что-то делалось. Дворник Дарула, гардеробщик Гамбош, письмоносец Клескень в черной гардистской форме и еще какой-то гардист, незнакомый Лашуту, вынесли переносную трибуну, стали устанавливать посреди двора. За их действиями присматривали районный командир Минар и строевик Машица. Когда трибуна стала на место, оба похлопали ладонью об ладонь, как бы отряхивая руки, хотя и двух соломинок крестом не сложили.
Потом Лашут увидел: трибуну покрыли красным ковром.
Потом: Дарула и Клескень вынесли свернутую красную дорожку. Дарула ударом ноги заставил ее развернуться — побежала дорожка прямо к трибуне. Вот явится главноначальствующий над всей гардой, пройдет по дорожке, станет речь говорить.
А еще потом: два славных паренька в комбинезонах прилаживают на обеих сторонах трибуны стояки с микрофонами.
Лашут все смотрит, смотрит.
Маршем вошли во двор гардистские отряды. Зачернел двор гардистскими мундирами. Только вокруг трибуны остался пустой четырехугольник. Вскинулись руки — по предписанию, до уровня глаз.
В глубокой тишине — Лашут слышал, как бьется его сердце — главноначальствующий прошел по красной дорожке, прошел пружинистым шагом, как в цирке укротитель зверей. И опять, следуя предписанию, вскинулись руки до уровня глаз. Командир принял рапорт. Лашут услышал отрывистые выкрики. Репродукторы еще молчали. Потом кто-то включил их внезапно, в самый нужный момент, когда из глоток гардистов вырвался оглушительный — как при детонации — грохот:
— …страж!
Город взлетел на воздух от рева.
Дежо Фридман, который, обладая нежными искусными руками, был склонен скорее к размышлениям, чем к работе, говаривал: человек, то есть современный человек, отличается ненормальной чувствительностью спинного мозга. У немецких солдат спинной мозг гудит, как телеграфный столб, потому и маршируют они словно в экстазе. «Чепуха, Дежо! Не городи ерунды!» — накидывался на него Лашут, но теперь ему самому казалось, что у главноначальствующего также гудит спинной мозг и что по красной дорожке прошагал он в состоянии экстаза. Главноначальствующий поднялся на трибуну. Лашут прислушался к своему спинному мозгу — насколько чувствителен.
Великолепно начал главноначальствующий:
— Гардисты! Плутократия выброшена на свалку истории! — Мощный пафос прозвучал в этих словах. Мощным жестом указал он в угол двора, где стояли мусорные бачки. — Франция изменила и сама стала жертвой измены…
Тут он вдруг изменил тон. Он отличался удивительной способностью меняться. Теперь этот низенький человек в блестящих сапогах задрал голову к небу. Дождя не было, на небе — ни облачка, но главноначальствующий всем внушал впечатление, будто его трагическое лицо орошает небесная влага. Пружиня в коленях, засунув руки в карманы, загремел он глубоким басом. Измена Франции мучила еще многих. И он атаковал это больное место своих слушателей.
Читать дальше
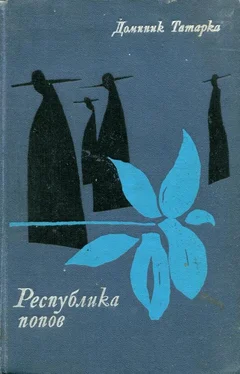





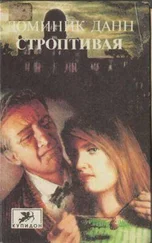


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


