Смотрит, смотрит Томаш Менкина и ничего не понимает: ах, да какое мне дело! Балкон гостиницы подпирают две кариатиды с фонарями — ну и пусть себе подпирают. Когда-то гостиница претендовала на постояльцев из лучших кругов — ну и пусть претендует. Трактир для простого народа не тронули — пусть остается прежним на века вечные, ведь и простой народ — вечен. Только ресторан, или кафе, или как там это называется, побелили, отчистили. Дверь в кафе застеклили, на стеклах светятся рекламные надписи: холодные и горячие блюда, завтраки а ля фуршет, наше фирменное блюдо — суп из потрохов… Томаш не возражал бы съесть хоть этого супа — желудок уже снова требовал своего, а в кармане ни гроша.
Так ли, этак ли, а войти надо. Томаш и входит, становится — локоть на стойку. Молчит. Хочет как следует разглядеть здоровяка-трактирщика, родного дядю, потому что трактирщик-то именно дядя его, американец, хочешь верь — хочешь не верь. Впрочем, не так уж важно — узнает он племянника или нет. Шапчонка на трактирщике как пить дать американская — такие жокеи носят. Ах, чтоб тебя стрелой пронзило! Ну и шапчонка: сама мелконькая, как ладошка, а козырек длинный. Только теперь проклюнулся в дяде настоящий американец. Теперь у него свой бизнес — ну и нахлобучил на голову что-то такое, в общем, американскую рекламу, нужды нет, что с Америкой воюем! А как нахлобучил ее, шапчонку-то эту, сразу стало видно — преуспевает! Козырек прямо в небо торчит, клювом этаким. Раньше дядя был, как тростинка. А теперь полнокровный, толстопузый мужичище, под шапчонкой под этой — чистый пингвин. Видно, прочно стал он на берегу моря, разливает его по чарочкам…
Долго рассматривал дядю Томаш, уж и самому трактирщику слишком долго показалось.
В его трактире гость может вести себя, как ему нравится, ведь где и чувствуешь себя дома, как не в трактире. Да, но этот парень, который вошел и — шасть к стойке, прямо как какой-нибудь задира-ковбой, этот парень, сдается ему, подозрителен. На голове у него повязка — только повязку и видит американец со своей трактирщицкой кочки, — и разит от него тоже подозрительно: не то больницей, не то, скорее всего, каталажкой. И скрюченный он какой-то, худой, в чем душа держится. Какой-нибудь бедолага, а может, несчастный. Поэтому трактирщик осведомляется суховато:
— Ну, что угодно?
В тон свой он подпустил ровно пять граммов брюзгливости и столько же — хозяйского любопытства: а заплатить-то, мол, есть чем?
Однако парень с забинтованной головой — ни слова в ответ. Видно, денежки есть, но вроде в горе он. Тогда трактирщик взял тон, каким разговаривал с людьми иной категории — с несчастными или алкоголиками:
— Ну как, зальем? Зальем горе-беду, пусть отвяжется!
Забинтованный опять ни гу-гу. Неужто трактирщик ошибся? Еще попытка:
— Может сливовички, кровь разогреть?
Опять осечка: как видно, гость и к этой категории не относится. Американец мгновенно меняет курс — не очень уверенно, но все же заговаривает тоном, предназначенным для людей со средствами: беспечно и вкрадчиво. Так и слышишь будто вкусное причмокивание:
— Для аппетита возьмем чистой можжевеловой, потом закусим. Живем-то один раз! Кости — это для служащих. А вот подтопить доброй чаркой, а сверху мясца положить — это другое дело, на целый день согреет.
— Ох, дядя, ну и купец — талант, гений! — не выдержал, вскричал в восхищении Томаш. — А говорят, у словаков нет призвания к торговле! Ан есть! Только корчму надо дать каждому… — Последнюю фразу Томаш вслух не произнес.
— Томо, шутишь! Господи, как ты выглядишь? — Но дядя тут же и засмеялся, раскрыл объятия. — Ничего, Томо, ничего…
Томаш в объятия не пал да и не мог бы пасть, захоти он даже, — дядин живот мешал. Тем не менее американец привлек его к себе, по спине похлопал, погладил, как будто утешал горько плачущего. То, что племянник и не думал плакать, его не смущало. Все похлопывая его, утешал:
— Ну, ничего, ничего, еще вон какой молодец будешь, ничего. Поправишься, оперишься… Для тебя ведь стараемся-то. Ничего, не бойся.
Он схватил Томаша за руку, повел. Вывел во двор, стал посередине, широко развел руками. На галерее покачивались в креслах-качалках старик со старухой. Они сейчас же встали, скрылись в доме.
С трех сторон двор замыкало двухэтажное здание гостиницы с деревянной галереей вдоль всего второго этажа, заменявшей коридор. Двери номеров выходили прямо на галерею. В первом этаже помещалась квартира владельца — окнами во двор, кухня, прачечная, дровяной сарай и уборные. Кухонные помои, грязная вода из прачечной стекали по стокам в канаву посреди двора. Из трактира несло выдохшимся пивом и табаком; кузня, прачечная, нужники издавали свои особые запахи.
Читать дальше
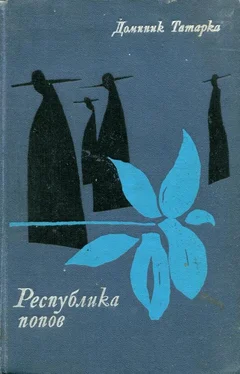





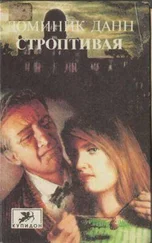


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


