Яд, вдыхаемый Томашем в дядином заведении, начинал действовать. Томаш чувствовал себя как в дурмане.
Нельзя, не хочется верить, чтобы взрослый человек мог так измениться за столь короткий срок. Дядя располнел — да что располнел, он удвоился в объеме! Морщины исчезли. Весь он выпрямился, округлился. Прежде был, как голодная душа, и образ мыслей имел собственный: мол, можно с малого прожить, просто милостью божией или манной небесной. А нынче? Сколько же этой самой небесной манны потребуется в такой бурдюк! Совсем другой стал человек. И выражение глаз, лица — иное. Выражение довольства. И это было ужаснее всего, ведь не мог он не знать, что творится в его заведении. Однако дядя с удивительной деликатностью умел закрывать на все это глаза. Ежевечерне перед сном, в одном белье, он с таким благоговением подсчитывал дневную выручку, словно творил молитву. Но что бы ни думал Томаш — отчего таким загребущим стал дядя, откуда в нем что взялось, — наиболее примечательной казалась ему дядина шапочка, которую раньше он никогда не видел. Ох, эта шапочка… Только за нее и мог Томаш ухватиться: ведь если дядя еще в Америке ее купил, и сюда привез, и сохранял — значит, уже тогда таилось в нем что-то такое, уже тогда мечтал он о богатстве и спокойной жизни. Уже тогда алкала его голодная душа… Иначе не мог Томаш постичь перемену, совершившуюся в этом человеке. Так и подмывало Томаша сдернуть с головы дяди волшебную шапочку: а вдруг этот наизнанку вывернутый человек снова превратится в дядю…
А мама… Она сделалась величайшей слабостью Томаша, хотя должна бы служить ему поддержкой. Мама превратилась в ретивую богомолку. Она вся насквозь пропиталась набожностью, поглотившей даже ее материнское чувство. Всякое помышление о сыне можно было, согласно предписаниям святой церкви, принести в жертву, например, замыслам папы римского или бановецкого декана. «Вот если б я так приносил в жертву все мысли мои о Дарине — брр!» — пришло на ум Томашу. Всякая, даже мимолетная мысль о матери заканчивалась неаппетитно: мать целует жирную руку бановецкого декана, смиренно молит о милосердии… Болезнь души, болезнь воли овладевала Томашем. Собрав остатки сил, ходил он предлагать себя служащим в сыроваренную артель, редактором в незначительный, а потому и безобидный, журнальчик, корректором в издательстве — надо же было чем-то жить. Но везде ему или сразу отказывали, или велели ждать — везде боялись принять интеллигента, сидевшего в тюрьме. Бродя по городу в поисках места, Томаш, честно говоря, в первые же дни завернул в гимназию — повидаться с Дариной. При встрече с ним старшие учителя притворялись, что не видят, младшие махали приветственно рукой — издалека, тоже не уверенные, можно ли заговаривать с ним. Вот и хотелось ему хоть с Дариной словом перемолвиться. Узнав от Янко Лучана, в каком классе Дарина преподает, он явился во время урока и только собрался постучать в дверь, как директор Бело Коваль, неусыпно следивший за плавным ходом обучения и, казалось, даже в коридорах прислушивавшийся, не развращают ли учителя школьников идеями большевизма, приблизился к Томашу как некий дух и спокойненько вывел его вон:
— Пан Менкина, вам тут нечего делать. Если же вам нужно что-нибудь, обратитесь в дирекцию письменно.
С дирекцией Менкина отнюдь не желал иметь ничего общего, а тем более с этим добряком. Однако он запротестовал:
— Как это мне здесь нечего делать? Я еще числюсь в штате гимназии. Меня освободили из предварительного заключения, никакой вины за мной не нашли!
— Подайте прошение. Но я вам говорю — во вверенной мне гимназии таким учителям не бывать!
Итак, Томаш не знал, за что взяться. Но жить так дальше он не мог — он бы совсем заболел. Предложил матери:
— Мама, поедем домой…
Ах, для нее это была несбыточная мечта:
— Домой? — Лишь головой покачала. — Домой-то разве уж на кладбище… А пока жива я — и тут есть божий храм.
Дяде мать сказала не к месту:
— Янко, наш Томаш домой хочет.
— Томаш, Томаш, чем же тебе тут плохо? Что не понравилось? А там что делать будешь?
Долго не мог американец освоиться с этой мыслью, и из этого Томаш почувствовал: фальшивит дядя. Чтоб проверить, поставил условие:
— Ладно, дядя, останусь. Только вы дайте мне работу в своем заведении.
— Пан учитель, а как же звание твое? — сейчас же нашелся дядя, проявив сердечную деликатность.
— Подумаешь, звание. И в Америке, поди, ни звания, ни аттестаты ничего не стоят.
Читать дальше
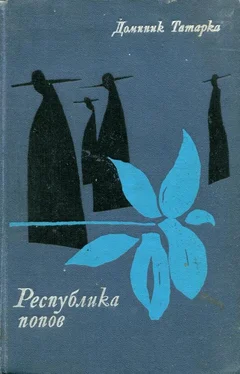





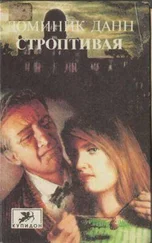


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


