Сжалось сердце у Томаша Менкины. В этом смрадном дворе-колодце только старая груша веселила глаз, да и та тянулась через ограду, прочь, к свету.
— Ну, как? Нравится? Золотая жила. А мы-то и не знали! Тебе останется, Томаш.
Томаш с неловкостью и смущением рассматривает ветхую постройку, но особенно пристально вглядывается в дядю. Тот стоит, довольный, прямо посередине двора — этаким новоявленным колоссом.
— А я потолстел, верно? — сказал американец, уловивший, несмотря на все свое довольство, удивленное выражение на лице племянника, и рассмеялся. — Го-го, потолстел, потолстел! Зато чувствую себя отлично. А ты, Томаш, худой, как тросточка.
Тут он внимательнее пригляделся — на что это Томаш так пялит глаза? Уж не расстегнулась ли у него ширинка? Приглядевшись, заметил, что стоит над самой канавой, в помойной луже. Ах, вот отчего брезгливо морщится чувствительный учителишка! И американец расхохотался бурно — го-го-го!
— Три дуката в куче! Помнишь, я рассказывал тебе о трех дукатах? И опять подтвердилось: в навозе-то золото прячется. Грязь, помои — а золотишко приносят. Ну не золото, так кроны, хо-хо-хо!
Он весело пошлепал башмаком по луже.
— А теперь поди, покажись Маргите… матери то есть.
Американец еще думал, хмыкал, головой качал. Ждал Томаш — ну, наконец-то скажет слово человеческое, коли так настраивается долго, а он только и сказал:
— Слышь, Томо, а бинты эти твои снять нельзя?
Дядя втолкнул его в кухню, захлопнул дверь за ним, а сам поспешил в распивочную. Ему тоже тяжела была встреча Томаша с матерью. И он уклонился от этой встречи во имя новой своей удачливости.
Томаш остановился у двери — ждал, чтоб мать сама его заметила. Мать рубила потроха в страшной, облезлой кухне. Но первой его увидела широкая, румяная кухарка, а потом уже — мать. Как-то поспешно и суетливо вытерла руки об тряпку, после зачем-то сполоснула; ждала, когда Томаш протянет ей руку. Молчаливое рукопожатие — вот и вся была встреча. Томаш промолвил нарочно небрежно, а потому и жестоко:
— Вот и я, мама.
— Вот и ты, сыночек мой бедненький… Пойдем-ка!
Пятясь перед ним, глаз с него не спуская, увела его мать в соседнюю комнату. Тихонько сказала:
— Садись.
Озирается Томаш, и не столько он видит, сколько чувствует, с ужасом чувствует, какое все здесь чужое, чувствует, как поднимается к горлу что-то нечистое, дряхлое, и с ужасом думает он — и мысль эта, как стон — и здесь она живет! Где-то наша избушка, в которой мы жили вместе? Среди чужих, враждебных предметов мать — как испуганная птаха, цыпленок крохотный. Сама рассказывала — отец ругал ее мокрой курицей… За время, что Томаш не видел ее, мать как-то уменьшилась, съежилась, истаяла. Как будто от матери кроха осталась — малая, легкая. А сама мать исчезла. Не было ничего от ее окрыленности, и душа в ней была теперь крошечная. Ни веселья, ни радости в ней. Глаза робкие, уходящие. Взглядом не обнимала его — только трогала. И раньше, когда приезжал, бывало, сын на каникулы, мама делалась робкой — но так по-женски, даже чуть-чуть кокетливо-робкой. Теперь мама растерянна, виновата, вот и робеет перед ним. Ах, и еще горше у нее на сердце. Томаш все смотрел на нее, удивлялся: мама, мама, куда ж вы исчезли? И опять застонало в нем горько. И казалось ему, что уж и не жалеет он матери больше. Ужас рос в нем, поглощая сыновнее чувство.
Первое, что бросилось ему а глаза в этой комнате, было сальное пятно на высокой спинке старого кресла. Кто-то имел обыкновение сидеть в нем, откинувшись на спинку потной лысой головой. Да и во всем ощущалось присутствие чужих, которые жили тут раньше. Мать его здесь была в плену. Тесно тут было душе ее. Нет, не по доброй воле пришла она сюда. Он слишком хорошо знал ее, чтоб хоть на минуту усомниться в этом. Дядя — тот с поистине американским размахом завладел всем этим хламом. А мама — то ли не умела, то ли не хотела взбунтоваться, чтоб хотя бы разметать порядок, заведенный чужими. Она явно только терпела его. Все здесь настолько было чуждо ее душе, ее вкусам, что она даже и не пыталась хоть как-нибудь изменить этот мирок. Она выглядит униженной, и без сомнения она унижена тут. Полбеды, если б мать чувствовала себя униженной перед богом на небе, перед ливнями и разливами, но она, по-видимому, унижена и перед этим хламом, перед чужим, враждебным ей порядком.
Долго озирался Томаш, наконец пододвинул стул, сел. А столик-то рядом — не тот прочный стол на прочных ногах, а другой — овальный, яичком, и ножки у него какие-то перекрученные, и носки у них вверх загибаются, словно холодно им на полу стоять. А на самом столике — опять фокусы! — скатерть, черт ее побери, стеклянная, из стеклянных бусинок снизана. Разноцветными бусинками выложен попугай: в клюве колечко, в лапках корзиночка, и косится на Томаша — здравствуй, мол, гость! Сел Томаш к этому попугаю, с отвращением перегнул его пополам. А мама опять тихонько:
Читать дальше
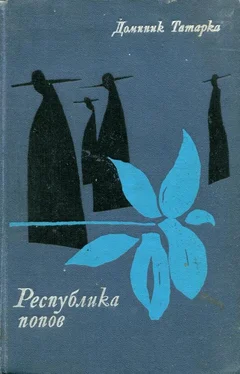





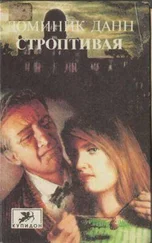


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


