Томаш поцеловал ей обе руки и ушел. Больше он не встречал ее в жизни, но сохранил в своей памяти. Увы, нет очевидца долговечнее и нет бессмертия иного, чем человеческая память, чем память Менкины, этого мягкого, слабого, быть может, переменчивого человека.
2
Томаш Менкина, как упрямый ребенок, стремился к своей мечте — ему было мало обычного поезда, на который он получил требование в тюремной канцелярии, ему во что бы то ни стало хотелось мчаться экспрессом. Повезло Томашу — Эдит дала денег, чтоб доплатить за скорость. Так исполнилось его желание. Скорый поезд мчал его — все было так, как он вбил себе в голову. Спустил окно, высунулся.
Ветер бил в лицо. И удивительное чувство захватывало его целиком. Ветер и земля, долина Вага, была единая упругая стихия, он рассекал ее, как пловец волну. А то запрокидывал лицо в ночное небо, и взгляд его блуждал от звезды к звезде, охватывал созвездия. От всего этого пьянел человек, которого так долго держали в четырех тюремных стенах, куда до него не доносился вольный ветерок.
Экспресс промчал мимо Тренчина, впереди была Жилина. Томаша поразил рассвет — поблекшее ночное небо над горами. Какое утро! — подумал он. Что я буду делать? Сойти в Жилине, забрать чемоданы из дома на Кладбищенской, передохнуть у матери в Кисуцах, съездить к Дарине, а потом, потом… — Он не знал, не видел, что будет делать, за что ухватится потом. Права была Эдит. Люди, подобные им, должны, как стену, пробивать головою каждый новый день. Печаль поднималась в душе. У таких, как у него, интеллигентов, одна голова и есть… Ах, да что там! — встряхнулся он: пришел на ум крестьянин Килиан и его хорошенький «близненочек». Уж как-нибудь он, Томаш, проживет. В тюрьме он мыслил более широкими масштабами — о будущем размышлял, об истории. В тюрьме человека избавляют от личных забот, учат думать крупными категориями. Томаш, когда сидел в тюрьме, все представлял себе так, что человек достает до будущего мыслью своей, решимостью освободиться. Эта решимость торчит впереди повозки. И ею, оглоблей этой, люди врываются в будущее. Сами едут в повозке и как ни поворачивают, а оглобля-то все равно постоянно вперед устремлена — в будущее, в историю. Да уж простите узнику нескромность, но он думает и об истории. А сейчас Томаш едет в поезде, впереди него — паровоз, на паровозе — стальной щит. Пока что не надо Томашу пробиваться головой вперед и изводить себя заботами.
Как задумал, так и сделал. Сошел с поезда в Жилине, отправился на Кладбищенскую улицу за чемоданами. Хозяйка дома не узнала его: то ли еще не проснулась как следует, то ли — ну, конечно! — из-за повязки на голове. А узнав — испугалась. Стала в двери, чтоб он не вздумал войти в дом. Какие у нее неприятности по его милости были! Перевернули вверх тормашками весь дом, весь чердак… Уж если учитель — не порядочный, не приличный человек, то кто же тогда? — изливала хозяйка свое возмущение…
— А вещи ваши давно взяли. Спросите в гостинице Клаповца «У ворот». — И хозяйка уже мягче добавила: — Приходил американец, сказался родственником. Он и взял все.
— Значит, у Клаповца, говорите?
— Да, да, туда идите.
От этого Томаш как бы остановился в разбеге. И уж не так хотелось ему в родные Кисуцы… У живой изгороди еврейского кладбища старичок пас коз. А Томаш — такое было у него ощущение — преодолел огромные пространства и превратности и теперь, при виде старичка с козами, почувствовал себя так, словно выплыл перед ним кусочек давно забытой вечности… Здесь испокон веков пасли коз и будут пасти вечно. Старичок с таким же успехом мог пасти своих козочек на райских лугах, как и тут, у кладбища.
— Пасете, дяденька? — заговорил с ним Менкина. Разговор завязался.
Старичок жил в приюте для бедных, ходил за козами, божьими тварями, — хотел еще пользу приносить. Всю жизнь скитался дротарем, всю Европу исходил. Такой теперь он был уже старый, что собственная жизнь оборачивалась ему сказкой. Он твердо верил, например, что в Вене живет морская дева. Дева эта до половины как женщина, а ниже уже хвост, покрытый рыбьей чешуей.
Славно поболтал с ним Менкина, хорошо ему было слушать сказку, да надо было идти дальше. Пока жив человек, все-то надо ему дальше, дальше…
На Верхнем валу, на том месте, где некогда стояли городские ворота, увидел Томаш по всей стене четкую надпись: «Hôtel Klappholz». Название этого трактира и сомнительной славы гостиницы никому не бросалось в глаза, пока его не сорвали: большие выпуклые буквы потемнели, время сравняло цвет букв и стены. Только теперь, когда новый хозяин-аризатор посрывал эти буквы, старая еврейская фирма стала кричать о себе свежей белизною штукатурки. Радоваться бы прежнему владельцу: ага, право собственности-то молчать не заставишь! Но и Томаша позабавил этот анекдот. Будто встал перед ним некий скоморох с гротескной физиономией мастера Мотулько. Томаш сообразил, что найдет здесь перемены. Подошел — и остановился: через дверь трактира увидел он не старого белого Клаповца, который всегда стоял за стойкой, перетирая стаканы, а какого-то высокого здоровяка с крикливой американской шапочкой на голове. Томаш постоял еще, перечитал название фирмы на фасаде — и снова почему-то к мыслям приплелся скоморох Мотулько, будто и он тоже читает, паясничает: «Вы, вижу, разучились читать по-словацки. У нас пишется Фраштак, выговаривается Глоговец. А тут — видали? Написано Hôtel Klappholz , а читать надо — John Menkina ».
Читать дальше
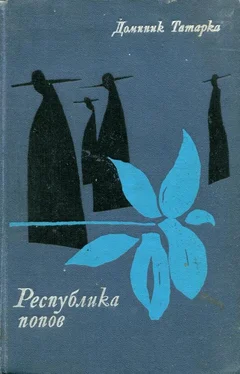





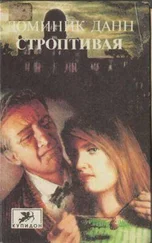


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


