— Любопытно, — ответил Пай–Хамбаров, как–то выразительно глянув на Душана. И добавил: — Ты должен привыкнуть ее есть, иначе у нас тебе будет трудно… — И, отходя от Душана, перевел разговор опять на обыденное, продолжая шутить: — А эти, семиклассники, все дверь ломают…
Должно быть, его не очень добродушно–шутливое «двери ломают» относилось не столько к самим учащимся, сколько к их воспитательнице, которая была видна в окно и по адресу которой Пай–Хамбаров сказал что–то смешное своим коллегам, отчего те весело засмеялись.
А после обеда Душан, хотя и отдыхал со всеми и сидел потом в комнате отдыха, пока мальчики, кряхтя и сопя, трудились над уроками письма и чтения, опять чувствовал себя отрешенным. И так до вечера, пока не разрешили побегать в большом дворе, где было спортивное поле, истоптанное сотнями голых ног на песке.
Мальчики группами гоняли мяч в разных концах поля, а воспитатели, собравшись в круг, сидели, расслабившись, в плетеных креслах и болтали. Старшие учащиеся поливали вокруг них землю из ведер, из кувшинов, чтобы от неожиданного порыва ветра не обдало воспитателей вечерней, теплой пылью, и этот плеск воды, должно быть, создавал ощущение свободы и отрешенности от дневной школьной суеты, ибо какое болтливое безделье и лень, бывает без островка прохлады вокруг, даже в такой осенний вечер, как сейчас, когда жара, державшаяся неослабно с самого утра, близко к вечеру от легкого дуновения ветра неожиданно уходит в небо, чтобы уступить долгое вечернее и ночное время прохладе, а близко к утру, опять перед жарой, нескольким всплескам зимнего холода.
Глядя на то, как, сладко зевая, отдыхают воспитатели, среди которых был и Пай–Хамбаров, Душан вспомнил долгие вечерние чаепития отца, который, казалось, больше всех ждет часа, когда Амон с Душаном польют двор, чтобы мог он потом растянуться на кровати, уйдя в себя, не слушая и не отвечая, прочувствовать всем своим существом каждый миг медленного течения времени до сна, «небесного мига бухарца» — так назвала это время бабушка.
Все знакомо и прочувствованно, значит, и для Пай–Хамбарова, внешне такого озабоченного и делового, вся эта дневная жизнь классов и столовой, комнаты отдыха, которую, должно быть, лишь из чувства иронии связывают с отдыхом, — тягостный отрезок времени, и он тоже ждет вот таких минут расслабленности в плетеных креслах, оставшихся от князя Арифа…
Душану не дали подумать до конца и понять, позвали играть, толкали, подбрасывая к его ногам мяч, желая испытать на ловкость; Душан два раза ударил неуклюже в сторону Аппака и Мордехая и снова отошел к краю поля, удивляясь тому, как это хилый и нездоровый на вид Мордехай бодро бегает по полю, видно, старается, лезет из кожи вон, чтобы подвижные и ловкие признали его равным и не обижали.
Душан же притворяться не будет, бегает он плохо, увидев его в трусах на поляне во время игры в футбол, мальчики смеялись, показывая на его длинные ноги с плоскими стопами. Он давно решил про себя, что его должны принять таким, каков он есть, — хитрить и плутовать, чтобы произвести впечатление, он не может.
«Вот и правильно! Благороден!» — помнится, воскликнула бабушка. Она сидела возле среднего окна летней комнаты, пытаясь поймать в волосах Душана красного с черными крапинками жука — божью коровку.
Божья коровка, улети на небо,
Там твои детки кушают котлетки…
Тоскливая присказка, может быть, оттого, что детки так несправедливы, кушают котлеты в то время, когда их мать запуталась в волосах и вся ее жизнь зависит от милости Душана. Немыслимо далеко ей надо лететь, немыслимо далеко небо.
«Зато котлеты у них тоже свиные», — усмехнулся про себя Душан, хотел придумать еще что–нибудь о божьей коровке и ее жестоких детях, ведя одну мысль к другой, часто самой неожиданной, казалось бы, не связанной с предыдущим и шокирующей, но крики дежурного воспитателя: «Первый, налево! Четвертый, направо, рядом с шестым!» — не дали ему подумать.
Был приказ учащимся построиться здесь же, в поле, не расходясь после игр. Видел Душан, как помрачнели воспитатели, не желая вставать с кресел, даже менять позы — так хорошо они расслабились, слышал мальчик, как Пай–Хамбаров сказал недовольно: «Ведь надо же ему свою неспособность скрашивать вот этими бессмысленными каждодневными сборами», но не понял, о чем речь.
Речь же шла о ежевечернем сборе, на котором директор Абляасанов говорил о том, как прошел день интерната, доволен ли он, говорил проникновенно и горячо, давая выход накопившемуся за день огорчению, словом, перед тем как идти в умывальную комнату, все выстраивались вокруг директора, воспитателей, поваров и конюха, чтобы еще раз увидеть друг друга, но уже не в суете и криках, а в торжественном молчании, которое, как бы подводя черту перед ночью, должно было наполнить сновидения своим личным, глубоко человеческим содержанием. И действительно, со временем Душан так привык к этим сборам, что сумел разделить свои ощущения на личные, интимные, куда никто не смел проникать, и на коллективные — вечерний сбор и был тем пределом, тем освобождением, когда Душан отдавался самому себе.
Читать дальше
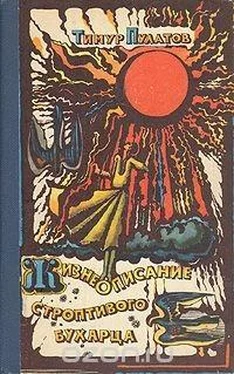





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



