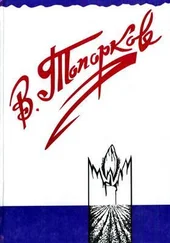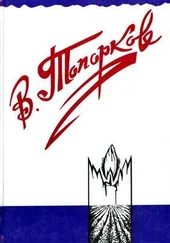Дела мои никудышные. С двумя осколками косы в руках опустился я на большущий жернов, который неизвестно с каких времен покоился около кузницы. Говорят, что его привезли сюда с мельницы-ветрянки, чтобы оковать, дядя Мотя с работой этой справился, нагнал два металлических обруча, но нужда в нем отпала, так как налетевший весной шквальный ветер напрочь перекорежил лопасти мельницы, а восстанавливать их рук у моих земляков пока не хватало.
Так и сидел я, точно прилип к здоровенному камню. Не уходил от кузницы потому, что в душе еще таилась надежда, что дядя Мотя сменит гнев на милость, возьмется исправить косу. Ведь сказал же Семен Бабкин, что это дело плевое, трех заклепок стоит. А с другой стороны, и идти мне было некуда — дома сейчас появляться нельзя, если не отчим, то мать устроит мне трепку за этот разор.
Солнышко медленно взбиралось вверх, припекало как через увеличительное стекло (было у нас любимое занятие — через выпуклую стекляшку добывать огонь, выжигать на деревяшках причудливые узоры). Это ласковое тепло скорее всего и клонило меня ко сну, голова, точно свинцом налитая, прилипла к коленям, и я потихоньку засопел.
В дни сенокоса вся деревня вставала еще по темноте, и, конечно, на ком сильнее всего сказывалось недосыпание, так это на нас, деревенской ребятне, про которую бабы говорили с глубоким вздохом: «Вот молодежь — вечером не укладешь, утром не добудишься».
Не знаю, сколько времени провел я в этой сладкой дреме, видимо, все-таки немного. Разбудил меня зычный голос отчима:
— Сашка, ты чего здесь ошиваешься?
Как оказался отчим около кузницы, понять трудно. Вероятнее всего, направлялся в магазин, да, заметив меня, завернул. Отчим был трезв, и это немного успокоило меня. Я поднялся с жернова, растер глаза руками, показал на обломки косы, тихо проговорил:
— Вот, видите…
Конечно, отчим и сам заметил мое «усердие», уставился на косу своими точно ледком подернутыми глазами. Наверное, в эту минуту мне надо было брать «ноги в руки», то есть быстрее бежать, но эта мысль пришла ко мне с запозданием. Своей длиннопалой рукой он схватил меня за ухо, поднял над землей, и я беспомощно закрутил ногами. От дикой боли я ужасно завизжал, а слезы брызнули из глаз.
Дядя Мотя выскочил из кузницы. Он мгновенно оценил обстановку, в два прыжка очутился около отчима. Но я, к счастью, освободился уже без его помощи: изловчившись, я с силой укусил обидчика за палец. Видел я, как брызнула красной смородиной кровь на рубашку отчима. Он рванул в мою сторону, но дорогу ему преградил дядя Мотя, уперся отчиму в грудь кулаками, и тот с досады закрутил головой.
Дожидаться мне было больше нечего, и я побежал от кузницы, не оглядываясь. Остались на жернове остатки косы. За спиной я слышал хриплый бас дядя Моти, громко кричавшего отчиму (позднее я заметил, что все кузнецы говорят громко):
— Креста на тебе нет, Григорий! Разве можно мальца щипать? Смотри, из мальчишки зверя вырастишь, он не только за палец хватать начнет…
Отчим что-то бубнил в ответ, но слов его я не различал.
День провел я с косцами. Конечно, работник без инструмента был я неполноценный, но что поделаешь, пришлось работать «на подхвате», как Илюха выразился, подменять тех, кто устал и на время уступал мне свою косу. К каждому «струменту» надо привыкнуть, а так, как у меня на это времени не было и над покосом то и дело слышалось: «Сашура, подмени», то устал я изрядно, но самое главное — набил кровяные мозоли на руках, и теперь они нещадно болели. Эта боль приглушила даже чувство голода, хотя с утра во рту не было ни росинки. В другой день я бы часам к одиннадцати сбегал домой, навернул краюху свежеиспеченного хлеба (хлеб духовитый, что сено луговое, при одном воспоминании слюни бегут), пару картошек, запил бы все молоком, таким холодным, что сводит зубы.
В обед, когда косари ушли в деревню, я искупался в озерце, погонялся за утятами. Целый выводок, девять пуховых черно-серых комочков резвились на водной глади, и мне почему-то страшно захотелось поймать хотя бы одного, принести домой, показать матери. Это оказалось совсем непросто: утята, заправские ныряльщики, в мгновение ока скрывались под водой, и я напрасно обшаривал кочки — появлялись они совсем в другом месте. Раза три порезавшись об осоку, жесткую, как стальная проволока, я прекратил свое бесполезное занятие, вздохнул тягостно и вылез из воды. Устроился на копешке свежескошенного сена и уснул, разморенный жарой, купанием. Проснулся бодрый и даже спроказничал над Илюхой — тихо пошел вперед с косой, догнал его на ряду, закричал:
Читать дальше