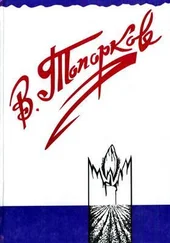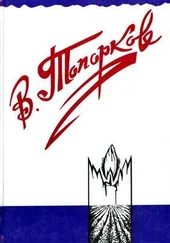Дома дед, указывая на меня, хвастливо говорил моей старшей сестре Шуре — она жила у него уже третий год:
— Видала гармониста? То-то… Теперь от деревенских девок отбоя не будет: гармонисты, они, домовой любезный, нарасхват. Угодил Петро с подарком, — и опять подмигнул, теперь уже сестре.
А вечером, отправляясь доить корову (дед эту процедуру не доверял ни моей сестре, ни тем более моей матери-горожанке: еще, домовые любезные, испортят животину), говорил мне:
— Смотри, Алеха, каждый день за инструмент садись. Отец твой тележного скрипа боялся, а теперь доблестный офицер. Должен же ты ради отца эту премудрость освоить.
* * *
Играть я научился к концу войны, научился, что называется, за один день. У меня уже было так однажды. В декабре сорок первого сосед-десятиклассник Юрка Бочаров перед отправкой на фронт перекинул через плетень мне свои дутыши-коньки, крикнул:
— Бери, Алеха, на память о солдате. Приду с фронта — чтоб чемпионом был, не менее.
Подарок Юрки, зависть всей деревни, я сразу унес домой. Не мешкая, отправился к берегу пруда, сыромятными ремнями прикрутил сверкающие дутыши к валенкам, разбежался, прыгнул на лед и… в долю секунды ноги оказались выше головы, а потом удар плечом, с хрустом, невообразимой болью, обжигающий холод шершавого льда. Превозмогая себя, я вскочил на ноги — а вдруг кто заметит мой позор! И снова неуклюжий пируэт ногами в воздухе, и снова болезненное приземление. Чувствуя, что у меня ничего не получается, протопал по снегу домой, прихватил в сенях металлический крюк, которым дед ежедневно дергал солому в скирде для коровы. Теперь я приобрел дополнительную опору. Расставив широко ноги, я с силой отталкивался крюком и легко скользил по янтарному льду. Но стоило хоть на мгновение отбросить крюк — и я снова летел на спину, передернув высоко вскинутыми ногами.
Так продолжалось несколько дней. Я уже смирился с участью, что коньки не освоить, как вдруг однажды — будь что будет, — разбежавшись по откосу, неожиданно для себя покатился плавно, не подгибая ног, с каждым толчком приобретая все большую уверенность.
Вот так же однажды пальцы утратили ломкость, стали гибкими, легко и уверенно забегали по клавишам гармони, и она через свои медные ноздри выпустила стройные звуки. Учить меня было некому: деревенские гармонисты где-то далеко под другую музыку ходили в атаку, корчились и стонали от ран в госпиталях, а для моих сверстников музыкальная премудрость был недосягаема. Желание научиться играть было непреодолимым, и поэтому ежедневно часа по два, ломая на колене инструмент, терпеливо ждал я этого мгновения, когда будет у меня что-то получаться. Но гармонь, изгибаясь в руках, визжала ошалелой метелью, храпела норовистой лошадью и словно навсегда утратила свою напевность и мелодичность.
— Ну что, Алеха, — шутил дед, — опять «гони кур со двора» получается? Может, и правда, бесталанный ты человек, зря время тратишь? Оно ведь как в жизни: одному — печка, другому свечка. У нас был печник Иван Фомич. Тот, бывало, встретит председателя колхозного Семена Дорофеевича, по плечу похлопает и говорит с ухмылкой: «Нас, Дорофеевич, в колхозе двое главных: ты по политике — речи казать, а я по печному — дымоходы ладить». Дорофеевич — в гордыню, дескать, сравнил орла с курицей, а Иван Фомич ему в ответ: «А ты попробуй печную науку одолей…»
Дедовы слова меня злили, и гармонь еще круче изгибала мехи, но в этой ярости вообще всякий лад утрачивался, пальцы становились непослушными. Не знаю, говорил дед те слова просто так, от души, или с тайным умыслом разжечь меня, подзадорить. И я снова и снова рвал гармонь.
И когда по избе впервые чисто, стройно покатились звуки, я был на седьмом небе. Дед, прибираясь по хозяйству, заглянул в комнату, с минуту постоял на пороге, послушал, а потом жаворонком вспорхнул на середину комнаты и как был — в грязных, измазанных коровьим пометом валенках с галошами, в фуфайке — пошел в пляс, приговаривая:
Самовар, чайник,
Федька-начальник…
Я захохотал, глядя на такую стариковскую прыть. Дед прекратил свою круговерть, содрал с головы шапку, шмякнул ее об пол:
— Молодец, Алеха! Хоть в доме радость появилась. А то живем, как в лесу, пням богу молимся.
Прав был дед: радость наш дом давно покинула, воробьем встрепенулась в первый военный год, когда пришла зеленая похоронка на отца. В раздольной степной Украине покоились теперь его останки.
Читать дальше