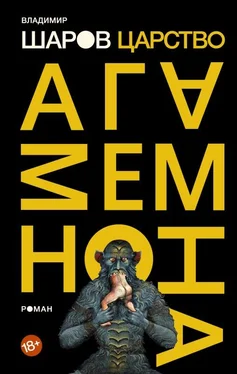Так что у Галины Николаевны были основания считать, что всё в “Агамемноне”, от строения фразы до ощущения эпохи – ее запахи (еда, пот), градус общего возбуждения – ведь ты не просто в эпицентре мировых событий, где ты – узловая точка истории; опять же ты не ничтожная песчинка – законная часть могучей бурлящей людской колонны, массы демонстрантов, которая течет как река, берега ее – стены многоэтажных домов, в руках у тебя красный флаг, дальше уже перед самой трибуной, сдавленный, взятый в тиски монолитной толпой, ты вместе со всеми и вслед за оратором скандируешь лозунги, которые каждому из народов земли несут мир, процветание, – до вышепомянутых человеческих судеб сплавлено отцом и умело, и естественно. В итоге одно другому не только не противоречит, наоборот, работает в связке.
У Галины Николаевны был аналитический ум; всё, что она слышала от одного, второго, третьего, она не просто собирала в лукошко, а будто дом, выстраивала, от фундамента, даже от котлована под ним, до флюгера над печной трубой. Ведь иначе понять отца шансов у нее не было. А понять было нужно, вернее сказать, ей было необходимо знать, как он думает, почему делал то, а не это.
В отце многое ее пугало, другое она ненавидела, но она и очень его любила, и вот без “Агамемнона” одно с другим было не сговорить. Ведь что есть проза? Говорят, автобиография, где всё – ты, но под разными обличиями и в разных ипостасях; конечно, и это, но главное, она – исповедь. Ты стоишь перед Богом и не спеша, вдумчиво каешься. Так что Галина Николаевна понимала, что если кто-то насчет отца и захочет с ней объясниться, то только его роман.
Второй она тут использовала на полную катушку, но пыталась и первый. Многие говорили, что “Агамемнон” – может, потому, что Жестовский еще не успел в себе разобраться – чуть ли не намеренно противоречив. Электра это принимала без возражений. Ей тоже отец всегда казался очень противоречивым человеком, и сама она относилась к нему не менее противоречиво. Ни то ни другое Галина Николаевна от меня не скрывает, наоборот, при любой возможности напоминает: иногда в одном разговоре скажет, что никакого отношения к “Агамемнону” она не имеет, и сразу – что без нее отцовского продолжения “Карамазовых” вообще бы не было. Что мать – пишущая машинка.
Здесь была ревность между ней и матерью, и то, насколько по-разному они смотрели на отца, что он делал, как жил. Лагерь, воля, тут всё было важно. И вот она говорит одно, затем другое, то открещивается, то, наоборот, клянется, что “Агамемнона” она отцу прямо на блюдечке поднесла. Я и спросить не успеваю, повторяет, что никакого романа бы не было без рукописи другого человека, Гавриила Мясникова.
Но тут Галину Николаевну снова бросает в сторону, она уже о другом, о том, чем была “Философия убийства” для Мясникова и чем она стала для отца, и что, если бы у меня в руках был “Агамемнон”, я бы увидел, что поначалу отец целиком и полностью поддерживает Мясникова, и в финале тоже всё она, мясниковская правда, а страницы между будто подменили. Там много действующих лиц, у них разные судьбы, но Мясников, это сразу ясно, обречен, о том, что его ждет, нет даже разговора. Кстовский с Легиным представлены в романе двумя злобными эринниями: осатанев от ненависти, они напоследок жалят его и язвят.
На полях и без даты
Когда я сюда устраивался, меня предупреждали – сейчас часто это вспоминаю, – что старики в домах для престарелых легко, без лишней стеснительности говорят о самых откровенных вещах. Считается, что причина в том, что ослаб, может быть даже разрушен, самоконтроль. Но скорее дело в другом. Думаю, что мы просто пытаемся, пусть не в своей – в чужой памяти сохранить собственную жизнь. Без цензуры и ложной стыдливости оставить ее, как была. Несомненно, здесь есть уважение к жизни, которую ты прожил – на равных к хорошему и плохому, коли и то и то было ее законной частью. Теперь, когда твой век кончается, ты будто брал напрокат – возвращаешь прожитое обратно. Ведь вряд ли оно стоит того, чтобы хотеть забрать его в могилу, но и если всё пропадет, уйдет без остатка и следа, будто тебя и не было на белом свете, тоже неправильно.
20 апреля 1983 г. На полях
Когда Электра нервничает, когда к ней возвращаются старые страхи, что я подослан отцом Игнатием, или она вспомнит свою обиду на мать, что “Агамемнон” так и останется ее романом и никто не узнает, что именно она, Электра, всех свела, она вдруг принимается ёрничать. Может, и не кривляться, но говорить, будто совсем уж малолетка. И тут всякий раз мне на память приходят слова ее отца, что “все мы умираем детьми, даже если дожили до старости в твердом уме и здравой памяти; то есть какими пришли в мир, такими и уходим”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу