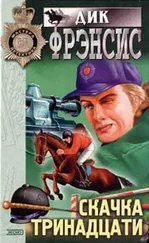С этой мыслью и шел. А еще припомнился вдруг ни к селу, ни к городу случай из невозможного, как сон, прошлого, а попутно, оттеснив его, другой, совсем недавний, когда он вышел на сцену милицейского клуба, слегка подшафе, но вполне уверенно и, дунув в микрофон, огласил название нового цикла стихов: «Из детства». И полный золоченых ментов зал так и притих, и долго еще Кондратий Комиссаров диву давался в писательском кафе: «Нет, это надо же!» — вышел, понимаешь, на праздничную аудиторию, этак, понимаешь, обвел взором, диссидент котельный, и с вызовом, с издевочкой: «Пиздец вам!»… Так вот, вспомнилось вдруг Тюхину, и опять же повторяю непонятно в какой связи, как он, сопля еще зеленая, в новых штанцах об одной бретелечке вышел на коммунальную кухню и на вопрос соседки Софьи Казимировны: «Ну, Витюша, где был в Москве, что видел?», тоже ничего себе отмочил: «Был в мавзоленине, видел неживого трупа!».
И Тюхин поддал ногой противогазную коробку и подумал о том, что смерть, хоть и не прекрасна, но тоже кое в чем — удивительна, елки зеленые, ибо мертвые подчас и впрямь живее некоторых живых. И наоборот! «И это говорю вам я, — подумал Тюхин, — новый свидетель и очевидец! Слышите, Константин Петрович?..»
И опять она взлетела — попавшаяся под ногу жестянка, забрякала по кирпичам. И Тюхин дунул в кулак, как в микрофон, и громко, с выражение процитировал: «Октябрь уж наступил!..». И наступил босой пяткой на что-то острое, и сам себя окликнул красногвардейским голосом: «Стой, кто идет! Пароль?». «Вся власть Заветам!»
— Весь вопрос — каким? — невесело уточнил он вслух. — Точнее, чьим?.. — и приметил еще одну листовочку — свежехонькую, еще мокрую от клея, на стене Лектория. И привстал на цыпочки, видя свою фотографию, потянулся, дабы сорвать и ознакомиться текстуально, и тут за спиной лязгнул затвор, и кто-то хриплый, до скончания времен прокуренный, гаркнул:
— Та-ак!.. А ну-ка вторую ручку — тоже вверх!.. Выше-выше!.. И кру-у-хом!..
Генералиссимус с гранатометом был долговяз, гимнастерочка на нем топорщилась, погончики без лычек закручивались пропеллером, пилотка была надета задом наперед.
— Да неужто Тюхин?! — обрадовался дусик. — И даже не переодетый, не загримированный! Ли-ихо!.. А ну, гад, сознавайся — ты за кого: за мандулистов или за даздрапермистов?.. В глаза! В глаза мне смотри, иуда беловежский! Ну!..
Тюхин подчинился. Угрюмо, исподлобья, как его бывший кумир, непримиримо вперился он пагубным своим взором в еще не успевшие остекленеть салажьи лупала новопреставленного, не моргая, уставился, так в душе и не зафиксировавшийся, ничей — ни кожаный, ни габардиновый, и даже, как это ни прискорбно, ни Божий — воззрился, окаянный, на дусика, как вождь с предсмертного снимка, и несуразный гусек в ХэБэ, молодой еще, необученный — вдруг побледнел, изменился в лице, дрогнул, подернулся дымкой, утратил конкретность, выпал из контекста, то бишь из своего новехонького обмундирования — ап! — и как не было его, говнюка, только гранатомет брякнулся на асфальт, да форма опала на кирзачи, уже пустая, напрочь лишенная содержания.
Ввиду отсутствия совести, особых угрызений у Тюхина не было. Тут же, на тротуаре — за грудой кирпича — он переоделся. Гимнастерка оказалась великовата, пришлось закатать рукава, а вот сапоги и пилотка пришлись как раз впору. Тюхин застегнул ремень со странной надписью на бляхе «ГОТ МИТ УНС» — и обдернувшись, опять почувствовал себя человеком. «Нет, все-таки верно говаривал Сундуков, — подумал он, поднимая противотанковую пукалку, — не это место красит мужчину, а — сапоги!..»
Вскинув на плечо гранатомет, Тюхин пошел дальше, по проспекту, походившему на ущелье, в кирпичных завалах по сторонам. Сеял дождец. Под подошвами похрустывало стекло. «За-апевай!» — скомандовал, загрустивший по лучшей, по армейской поре своей жизни Эмский. Рядовой Мы с готовностью подхватил. Спели батарейную — про артиллерию, гордость Родины трудовой, про Марусю-раз-два-три-калина… Тюхин, по ассоциации, запутался, сбился со счета, махнул рукой: «Э-э, да чего уж там!..». Вспомнилась вдруг вороночка в чистом поле, еще парящая, в розовенькой оторочке, в разбросанных вокруг ошметьях. Из груди Тюхина вырвалось самое русское из всех русских восклицаний: «Эх!..»
— Но за что, за что?! — сглотнув комок, пробормотал он, безнадежный, как гитлеровец под Сталинградом. И тут сзади дизель взрыкнуло, хлопнул пистолетный выстрел. Тюхин, сноровисто, как на фронте, упал за ближайшую груду кирпича, а когда осторожно выглянул из-за нее, аж присвистнул от удивления.
Читать дальше