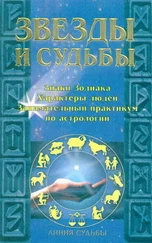А часы разбили.
— Страшно жить. И умирать страшно. Теперь. Когда всё вот так открылось. Совесть, говоришь? Она это в груди змеёй сворачивается? Давит? Наверное. Тебе лучше знать. Я-то всего троих «терпил» положил, а ты уж небось, десяток бродяг на тот свет отправил безнаказанно?
— Она, родимая. Это я тебе гарантирую.
— И что делать?
— Каяться. Откровенно сожалеть о содеянном. И надеяться, что тебе простится.
— Да уж. Смутил ты меня сегодня. Трудно это осмыслить. Как быть откровенным с самим собой? Это самого себя в ничтожество вгонять. Рыдать охота от горя и бессилия. И зло берёт. Нелегко себя переломить. Правильно поп говорил, гордыня во мне сидит, не даёт голову вниз наклонить, рассмотреть, что истина под ногами, а не в облаках. В облаках только журавли обманщики, да пустота всеобщая. Нет там правды.
— Что ещё ты там сегодня под ногами рассмотрел? — кажется, я нащупал нитку, ведущую к ответу на свой сокровенный вопрос. — Выход то под ногами есть? Лазейка?
— Нет. Спасения нет. Есть только понимание. И не станет мне легче и слаще теперь. Лазейки быть отсюда не может. Только ворота на тот свет. И теперь остаётся после всего того, что я про себя понял, остаток времени смотреть в небо.
— Так там пусто?
— Неправда. Есть там одна птичка. Маленькая, но настоящая.
— Какая?
— Надежда. У меня, конкретно, на то, что передумают они там, на верху, «вышку» мне оставить. И заменят на срок.
Я смотрел на этого матёрого уголовника. Грабителя, разбойника и убийцу. И понимал, что стержень его крепок, хоть и погнуло его моей откровенной беседой. Ведь он сейчас ни капли не рисовался. А действительно рассуждал так, как себе об этом думал. И его стойкость и врождённая настырность иного, нелюдя, выродка, не пускали и не давали ему свалиться в плач и сопли. Не скручивали в бараний рог ничтожества. Он принимал своё ничтожество стоя, с открытым забралом. Мужественно. И лишь надежда, маленькая птичка, питала его и успокаивала. Она теперь была его последним лучиком, соломинкой и спасением от чёрной бездны собственного раскаяния, упав в которую, уже не придаёшь значения своему самоуважению и гордости, человеческому облику и чести.
Там, на дне бездны, катался Димарик, целуя ботинки.
Но скатится ли туда Михаил? Вот вопрос. Теперь это главный вопрос. Что с ним станет, если забрать у него эту птичку? Обрушить ему на голову пустое небо? Выдержит ли стержень? Тут либо всё пойдёт по старой схеме, либо откроются новые перспективы. Ведь тогда надо будет вновь переосмысливать это, теперь с позиции последнего, главного знания. Может, тогда он напоследок сообщит мне, где та заветная лазейка?
Золото моют по крупинке, перелопачивая тонны породы. Моя лазейка как крупинка. Тонну породы я сегодня перекидал. Осталась последняя горсть, в которой истина. И там должна быть золотая крупинка. Непременно. Чутьём старого бывалого старателя, копающегося в чернозёме людских душ, я чую её запах. Я видел её блеск. Она там. Надо только сделать последний промой.
И я встал с табурета, одёрнув китель.
— Уходишь, начальник? — взглянул исподлобья старый сыч Михаил Викторович.
— Пора.
Я залез в карман, с шуршанием вынул заветное письмо. Птичку-надежду. Она затрепыхалась у меня в пальцах, словно её оживило большое последнее чувство моего собеседника. Он так хотел жить, он заставил трепыхаться мёртвую птичку. Пока он не узнал, что внутри, она была для него живой. А я смял пальцами, давя этот бумажный комок перьев, выдавливая из него жизнь, и развернув, прочитал:
— Вам отказано в вашем прошении о помиловании. Приговор надлежит привести в исполнение.
И развернув, протянул открытую бумагу к его рысьим глазам.
А он будто ослеп и оглох одновременно. Смотрел в упор в листок и не видел ни одной буквы, будто я ему на китайском текст подсунул. И слышал я отчётливый набат, который доносили до меня его вибрирующие барабанные перепонки. У него в голове играл реквием по себе. С трудом, тяжело и медленно до него доходил смысл сказанного мной. Как стылая болотная вода подтопляла его сознание, подбиралась к горлу, потом к носу, грозя захлестнуть волной. Это зелёный ядовитый страх травил поток, превращая в отвратительную гадкую жижу. Звериный ужас змеился, сновал ужом вокруг, опутывая руки и ноги. И трупик мёртвой птички-надежды медленно тонул, исчезая в мути и глубине.
А потом мне показалось, что луч света проник в камеру без окон, осветив на секунду макушку Михаила Викторовича. Приглядевшись, я с удивлением и мистическим страхом понял, что его русые волосы моментом посветлели до молочной белизны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу