На огромную пивную бочку выплеснулась крохотная рыбешка, дернулась раз-другой и, уснув, затихла.
— Не больно-то выносливы твои мальки. — И сын Оскара с удовлетворением поглядел на своих жаб.
Чуть не плача, сын письмоводителя перебрался на другой конец фургона и соскользнул на дорогу.
Немного погодя возчик сказал:
— Если вам в Оксенфурт, сходите тут. — Он обернулся. В фургоне никого не было. Покачивая головой, он снова воззрился на свой окурок.
У приближавшегося к ним по шоссе человека была форменная фуражка с кокардой. Рядом бежал длинношерстный белый шпиц. Все трое, не сговариваясь, остановились. Сын письмоводителя в нерешительности сделал еще шаг-другой, но уже бочком, как собака, почуявшая недоброе, и опять встал. Три пары глаз впились в неторопливо шагавшего к ним мужчину.
— Айда, ребята, лучше смоемся! — Они перепрыгнули через придорожную канаву и помчались к реке.
Железнодорожник, которого они приняли за полевого сторожа, посмотрел им вслед и пошел своей дорогой. День выдался на редкость хороший, в такой денек любых чудес жди.
У берегов Майна голубые глаза. Это бочажки, которые оставляет река после весеннего паводка, входя в свое русло. Из-под полегшего, поломанного ветром и дождем бурого прошлогоднего камыша уже пробивались новые тростинки — острые нежно-зеленые копья жизни. В бочажках тьма всякой водяной твари: рыбешки, жабы, полчища черных головастиков, — ни один мальчишка не пройдет равнодушно мимо такой благодати.
— Топко! — предостерег сын письмоводителя.
— И у меня топко. — Маленький Люкс, увязнув по колено в грязи, энергично загребал руками и локтями, высоко подымая свою драгоценную коробку. На нем были белые шерстяные чулки ручной вязки.
Сын Оскара стоял на коленях у края воды и, низко наклонившись всем корпусом, осторожно заводил сложенную в горсть руку: темная головка жабы, вынырнувшей подышать у листика кувшинки, беззвучно погрузилась в воду. Но вот мальчуган поднялся, подумал, помолчал еще с секунду и с удивлением заявил:
— Есть хочется.
Солнце стояло уже высоко. Река была синее неба. Гудели тучи комаров. Стоило крякнуть поблизости уточке, как лягушки тут же смолкали. И река, и воздух, и земля жили своей полнокровной жизнью. Окутанные голубой дымкой, дрожали дальние холмы, за которыми лежал Оксенфурт.
Лишь к вечеру — солнце уже село, в тиши далеко разносилось мычание отбившейся от стада коровы; у самой дороги взметнулась было птица, описала низкий черный полукруг над потемневшей зеленью поля и плюхнулась в межу — трое совершенно обессилевших от голода приятелей наконец подошли к первым домикам Оксенфурта.
Навстречу им, прогуливаясь под руку, шли доктор Гуф с Ханной и рядом с ним сестра, без шляпки, в белой кружевной накидке. Самый обыкновенный мягкий вечер, в такой вечер никакие предки и дурная наследственность не страшны; даже сестра Гуфа ощущала мир и покой, среди которого стоял безмолвный, нужный людям амбар, и, глядя на умиротворенное лицо брата, улыбалась ему.
Разочарованный холодной готовностью берлинки, он предпринял новую атаку на Ханну. Они провели вместе весь день.
Все трое остановились, увидев приближавшихся по самой середке пустынного шоссе трех маленьких волхвов: еле волочившего ноги сына письмоводителя с бутылкой без горлышка, мальчишку Оскара с отцовскими башмаками в одной руке и наполовину набитой жабами консервной банкой с заржавленной крышкой — в другой и маленького Люкса, который держал свою коробку с майскими жуками перед собой как поднос.
Его бархатный костюмчик превратился в белую робу штукатура, а пропитанные грязью белые ручной вязки чулки, затвердев, походили на две канализационные трубы.
Двадцать минут спустя, сдав коридорному почистить свою одежду, все трое, выскобленные, вымытые и сытые, уже лежали нагишом в двуспальной постели сестры Гуфа, а рядом на тумбочке были расставлены их трофеи.
Каждые три секунды, с равномерностью клапана паровой машины, ржавая крышка банки чуть-чуть приподнималась и опускалась. Это, пытаясь выбраться на свободу, подпрыгивала в банке огромная старая жаба, но сколько ни билась она головой о крышку, ей никак не удавалось ее откинуть.
Сын Оскара пододвинул поближе банку с жабами, словно это был ночничок, и поднял указательный палец: «Слышите!» Крышка звякнула.
— Семь майских жуков! Целых семь штук! Из них две жучихи.
А сын письмоводителя заявил, что ему нужно раздобыть свежей речной воды, не то все его рыбки за ночь передохнут. Весьма довольный, натянул он одеяло повыше и обнажил зубки, но больше ничего не сказал. Он чувствовал себя под надежной защитой. Стоило этой красивой и важной даме произнести только слово, и отец, конечно, пальцем его не тронет.
Читать дальше
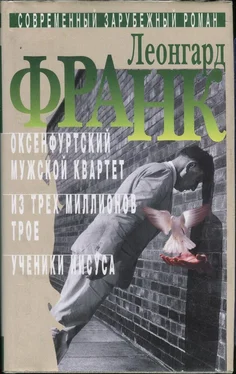



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




