Томас хотел удостовериться в чем-то чрезвычайно важном для всей его дальнейшей жизни. Потому-то он и остановился. Юноша хотел узнать, не ослеп ли он, не вытек ли глаз. Для этого надо было остановиться.
Закрыв здоровый глаз, он на миг застыл в темноте, пронизанной мерцанием разноцветных зигзагов: казалось, пульсирующая кровь этим таинственным путем искала связи с внешним миром.
И в этот страшный миг, когда он стоял и медлил, он почувствовал, что в глубине его сознания живет Ханна, и только она.
Положив большой палец на нижнее веко, а указательный на бровь, он с замиранием сердца оттянул веки.
Из темноты возник мир: сад, молодая женщина под цветущей вишней в огне заката.
У Томаса вырвался радостный крик. Все было хорошо. Какое счастье видеть! А палец скоро заживет. Все хорошо.
Оба пошли к фонтану, струйка которого била из садовой ограды, увитой плющом. Томас никак не мог найти носовой платок.
— Погодите! — Мальчик принялся шарить в левом кармане штанишек. Для этого он перегнулся вправо и, устремив мысленный взор в карман, вытянул левую ногу в сторону:
— Она ведь живая.
Выложив носовой платок на край фонтана, он с величайшей осторожностью стал его развязывать: из платка выскочила крохотная еще бесцветная ящерка, побежала вверх по стене к плющу и повисла на веточке, повернув назад головку. Она была в безопасности.
— Убежала. — Провожая ее тоскливым взглядом, мальчик теребил узелок, в котором были завязаны три пфеннига. — Теперь уж не поймать… Вот, можете вытереть кровь.
Томас взял платок кончиками пальцев и встряхнул. Ему вспомнились платки его детства — неописуемые платки.
— Берите, берите! Не важно, если замочите. Он только чище станет.
Несколько минут спустя они уже шагали домой рука об руку, довольные собой и жизнью и болью в глазу и в пальце.
Если бы Томас повернул за угол несколькими секундами раньше, то увидел бы Ханну с доктором Гуфом, но они скрылись за лодочной станцией.
Гуляющие мирно прохаживались по вечерней набережной с таким видом, будто по сравнению с ними все остальное население земного шара, которое только и знает что суетится, глубоко несчастно. А Майн, ласковый и могучий Майн, казался таким благодушным, словно в этот теплый весенний вечер окончательно убедился в том, что лишь ради него здесь воздвигли такой большой город.
Крепость на холме четко вырисовывалась на пламенеющей стене небес. В спускавшихся сумерках великаны на сказочных исполинских слонах вереницей переправлялись через реку — то был старый мост со статуями святых.
Если бы этот город, обрамленный мягкой грядой холмов, вследствие какого-нибудь стихийного бедствия внезапно лишился старого моста и крепости, и сам город и его жители утратили бы свой особый характер, как душевнобольной теряет свое «я».
Мальчик увидел на набережной товарища, сына письмоводителя.
— Мне надо поглядеть, что он там делает… Но если вы не можете добраться один…
Тогда он принесет эту жертву. «И принесет», — подумал Томас и направился к лодочной станции.
— С уловом?
— Четырнадцать штук! — И мальчик высоко поднял над головой сеточку, которую сам смастерил из бечевки.
— Наудил?
— Нет, нарвал в лесу!
Молчание.
— Придешь домой поздно, отец тебе всыплет… А мне одну дашь?
— Я с рыбой. Может, мне и не попадет.
— Как бы не так! Он тебя еще тот раз предупреждал, что всыплет, если опять пойдешь рыбу удить.
— А рыбку-то все-таки съел. А раз съел, значит все. Он и сам не знает, чего ему больше хочется: рыбу есть или меня драть. Никак он это не решит.
Молчание.
— А что сейчас со мной было, вот это да! Подумаешь ты со своей рыбой!.. Сколько она весит?
— Фунта три будет… А что было?
— Ха! Не скажу, что я, предатель, по-твоему?
— А за рыбину?
Длительное молчание.
— На вот лучше пфенниг.
У набережной стояла на причале иностранная самоходная баржа, нагруженная блоками красного песчаника. Возле рубки виднелась жестяная в полметра высотой посудина, похожая на бидон с керосином. Рыбаки сидели в ближнем трактирчике за вечерней кружкой пива. Сын письмоводителя снова затянул сеточку, пфенниг он зажал в зубах.
— Не будешь болтать, я тебе одну вещь скажу.
— Что я, предатель, по-твоему! — Отставив руку, сын Оскара прикидывал длину рыбешки, лежавшей на его раскрытой ладони.
— Керосин на воде плавает, и если мы потом его подожжем, вся река загорится… Я бы уж давно пошел домой. Но в темноте огонь красивее.
Читать дальше
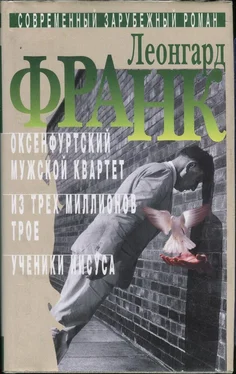



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




