Стеклянный Глаз и портной сидели каждый в своем углу на полу, вытянув ноги, удобно откинувшись и скрестив на груди руки, как паши, милостиво взирающие на танцы.
Барашек охранял граммофон. Когда Кордия его заводила, пес поднимался, вилял хвостом, как бы желая помочь ей, и когда она протягивала руки сестре, снова садился. Они танцевали под одну и ту же мелодию, но каждый раз меняя шаг и придумывая новые движения.
С точки зрения Стеклянного Глаза и портного, жизнь должна была быть именно такой. Дни их текли безмятежно, а теплыми ночами они были не одиноки.
На этот раз сестры, не касаясь друг друга, танцевали какой-то староиспанский танец, кружились одна вокруг другой, повернув лица в профиль и изогнувшись так, что резко обозначалась линия груди. Губы их полуоткрылись в улыбке, глаза блестели, — так положено в этом танце. Они танцевали для себя, каждая только для себя, ощущая собственную грацию.
Сестры-близнецы знали всего несколько немецких слов, а их возлюбленные — едва ли три испанских. Но и простого вздоха достаточно, чтобы выразить восхищение. Секретарь ушел из дома, хотя и трехэтажного, но без дверей и полов.
Только к утру, когда все спали, он вернулся, забрался в свой угол и долго беспокойно вертелся и ворочался. Управляющий рассказал ему, что во всех республиках Южной Америки безработица стремительно растет. Потом он продиктовал, а секретарь, всегда готовый помочь, отпечатал на машинке несколько писем, из которых следовало, что поместье послезавтра будет продано с молотка.
— Прежде чем явятся эти палачи, вы и ваши друзья должны уехать отсюда.
Да, секретарю уже за сорок, и жизнь его до сих пор была нелегкой. В зияющих проемах окон третьего этажа высоко-высоко над скорчившимся телом сверкали звезды. Он искоса поглядывал на них, как бы вопрошая: где же на всем белом свете преклонить ему голову?
Утром, когда уже совсем рассвело, мимо проснувшегося секретаря внезапно пробежала с маленькой склянкой в руках Ивира, спеша к своему возлюбленному, тело которого опять свело судорогой. Это состояние длилось у него уже несколько часов. Но Ивира крепко спала рядом. Теперь глаза его закатились, и между широко раскрытыми веками видны были только белки. Руки и ноги уже закоченели.
Бессильные что-либо сделать, стояли рядом Стеклянный Глаз и секретарь, пока Ивира пыталась накапать в рот возлюбленного жидкость из склянки. Зубы его были крепко сжаты, а губы, которые она ему раздвинула, так и остались раздвинутыми.
— Отравление. Виновата во всем старая рана, это она вызвала отравление, — сказал Стеклянный Глаз. — Еще в Гамбурге он жаловался, что рана на колене открылась из-за переутомления.
И тут Кордия, жадно ловившая биение сердца портного, подняла руку, широко растопырив пальцы. Сестра ее тотчас поняла и отвернулась. Портной был мертв.
Они похоронили его. Сестры стояли рядом.
Часом позже они покинули дом без потолков. Они вернулись в Буэнос-Айрес. Пешком. К этому они привыкли.
Бесконечная равнина, два человека, только два теперь, и собака… бесконечная равнина, в которой они затерялись.
Они опять поселились в той же каморке под самой крышей портового трактира. Ноги их еще гудели от ходьбы, и в первую ночь им казалось, что они все идут и идут сквозь бесконечность. И Барашек, который, то забегая вперед, то отставая и опять забегая, проделал весь путь дважды, похудел, а лапы его судорожно подергивались.
По безмолвному уговору о портном не говорили. Только однажды совсем случайно пришлось им заговорить об умершем друге. Их окликнули из открытого окна первого этажа какого-то дома, возле которого они остановились, заинтересовавшись сборищем на другой стороне. Тот самый скромный мастер, у которого работал портной, сидел с шитьем на столе у окна.
Беспомощной улыбкой попытался Стеклянный Глаз сдержать подступившую к сердцу боль. Но губы его не слушались.
— Ну, как дела?
Старик, клиентура которого состояла из безработных портовых рабочих, прямого ответа на этот вопрос не дал. Он показал не дошитые еще брюки, лежащие у него на коленях:
— Знаете, кто заказал мне этот костюм? Нет, этого вы не знаете… Его заказал мне я сам… А как поживает ваш друг?
— Он умер.
Жизнь на улицах и в кафе не изменилась. Только тот, кто искал работу, ощущал, каким шатким стал фундамент этой жизни.
Рабочие целых отраслей промышленности бастовали в знак протеста против попыток снизить заработную плату. У тысяч портовых рабочих, внезапно уволенных из-за сокращения экспорта, было много времени, и ничего больше, кроме времени. Оказались на улице и рабочие большого консервного завода, где миллионы говяжьих языков варили и укладывали в банки, чтобы разослать по всему свету. В мире стало значительно меньше людей, на языки которых мог теперь попасть кусок говяжьего языка.
Читать дальше
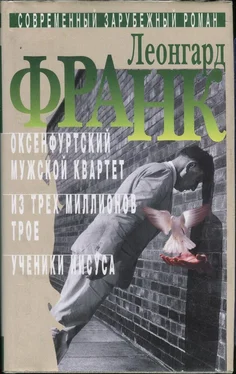



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




