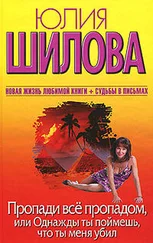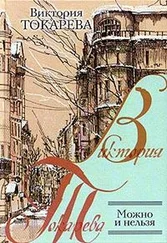Любой порядок, как-то сказал он, есть уход от разнообразия жизни к однообразию смерти, я не понял, что он конкретно имел в виду, говоря о порядке и с какого, собственно, рожна вырулил на эту скорбную тему, но спорить с ним тогда мне не захотелось…
Массивная небесная лепнина облаков на пути поезда опускалась до самой земли, и создавалось впечатление, что облака берут своё начало от каменной тверди, являясь её тёмно-серым продолжением, неким непроходимым, требующим тоннеля горообразованием, упразднившем собой горизонт. Сверху облака нависали над землёй подобно гигантским мёртвым лбам; по мере приближения поезда они неуловимо меняли тёмно-серый цвет на коричневый, и когда их масса беззвучно поглотила поезд и сам грохот, я закрыл глаза и уснул. Потом проснулся и увидел, что от облаков не осталось и следа, а плавный изгиб железнодорожного пути вел поезд в закат.
В закате не было огня, был всепронизывающий, мягкий, манящий свет, и в закате этом растворялись, переставали существовать все желания, кроме одного — немедленно уйти также красиво, как уходит солнце сегодня.
В пятьдесят девять лет воспоминания многолетней давности темны и мрачны, как невспоротое нутро. Все то, что не изменишь, представляется мертвыми событиями — была в них неотвратимость, присущая скотобойне. Рано или поздно начинаешь искать нечто живительное — драгоценность нежности, драгоценность сострадания, моменты, не имевшие ранее никакого значения, казавшиеся подозрительными и неправдоподобными, точно короткие взлеты маленьких крылатых рыб — ныне они извлекались памятью, промывались, как золотые крупицы.
Я помнил школьный двор и все, что не имело значения на нем — дорожка из квадратных бетонных плит, впалые места, где после дождя образовывались неглубокие лужи, поднимавшие с земли фантики и голубиные перья, огрызки карандашей и шелуху семечек; литая металлическая ограда, которую мы красили два раза в год, но которая все равно выглядела неухоженной, словно краска ею отторгалась, высыхая, превращалась в шелуху; ветви сирени, которую я не любил, нависавшие над оградой практически по всему периметру, редкие вкрапления рябины и черемухи, одно деревце дикой вишни, посаженное неизвестно кем, скупо плодоносившее и тогда, когда я пришел сюда и когда ушел. И было место, имевшее первостепенное значение — небольшой пустырь перед палисадником за зданием школы, где летними и зимними переменами толпился школьный народ — здесь происходил обмен, игры на деньги, разрешались многие споры, устно и на кулаках.
Менялось все — лампы сгоревших радиоприемников, маленькие и белесые, словно в них умер дым; диковинные высохшие жуки, которые могли золой рассыпаться в неаккуратных пальцах; старые зеленоватые патроны без пуль с пробитым капсюлем, словно подернутые болотной ряской; монеты с усталыми правителями, чьи профили будто бы говорили: так устать можно, только пребывая на деньгах. Здесь плач старших порождал рев младших, когда в разных возрастных категориях решались споры, в коих верх практически всегда одерживала несправедливость. И здесь шла игра в расшибаловку, которую не могло остановить даже то обстоятельство, что в школьной столовой поварам запретили брать от учеников выгнутые медяки.
Будучи уже в девятилетием возрасте наполовину седым ребенком, я ощущал себя среди них неким мутантом, вроде двуглавого котенка, который родился у молодой, слабой кошки, после чего лексикон ее хозяйки пополнился словом «кунсткамера», или сазана с четырьмя жабрами, выловленного рыбаками в одном из озер — я приучил себя к мысли, что именно так должны относиться ко мне окружающие, особенно дети, особенно сверстники, и впоследствии, вспоминая некоторые слова их, поступки, понимал, что думать подобным образом у меня были веские основания. От них меня влекло в лес, к запаху хвои — запаху равнодушия и честности, именно здесь мысли струились к старости, руслом наиболее прямым, туда, где моя седина обрела бы естественность и благородство. Впрочем, и здесь стремительность желания взнуздывалась тошнотворной неторопливостью времени, просто время здесь было чище. Страх перед невозможностью прожить свою жизнь как можно быстрее гнал меня назад, к людям, потому что казалось, все-таки среди них состаришься раньше. И я возвращался по центральной улице города, и дома расплывались у меня в глазах, начиная с окон.
После работы, за двустворчатыми дверьми, отделявшими кухню от гостиной, чьи витражные стекла, пронизанные многочисленными металлическими жилками, затемняли свет, за круглым, массивным столом, над которым низко нависал большой абажур, часами просиживал отец. Перед собой он расстилал географическую карту, и глаза его вычерчивали возможные маршруты, заставляли двигаться полусогнутый, пожелтевший от веретенного масла палец и губы его безмолвно шевелились. Больше всего в жизни он хотел уехать, а потому пускал по карте только ему видимые поезда, уносившие единственного пассажира по маршрутам, на которых отсутствовал пункт конечного назначения.
Читать дальше