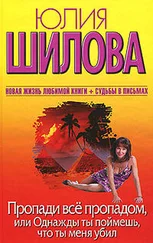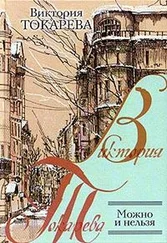Хол сказал: я никогда прежде не видел, чтобы рыбу ловили на консервную банку, как на спиннинг, а на севере ловят, и я расскажу как: берётся пустая консервная банка, в ней гвоздём пробивается три-четыре дырки, в них продевается леска с узелком, крупнее дырок на одном конце, иногда пяти, иногда десяти метров длины, на другой конец лески крепят крючок с червякам или мякиной и забрасывают подальше, а рыбак, с банкой в руках, в болотных сапогах, стоит по щиколотку, а то и по колено в воде, так, значит, считается, что рыба его не видит или почему-то не боится и, когда идет поклев, он подсекает, вытягивает леску, наматывая её на банку, как на катушку спиннинга, так они ловят хариуса — и сказал — иногда его чистят, режут на мелкие кусочки и едят сырым с солью вместе со своими собаками — сказал — в тайгу редко кто без собак ходит.
Одинг сказал одной половиной рта — да, на юге сырую рыбу не едят, разве что солят на семь-восемь часов, но и рыба эта с холодных горных рек…
Хол взял чай, принесённый женой, пожевал губами и продолжил — собаки у них там все больше большие, сильные лайки, хорошие, умные псы, от того, наверное, что всё больше рыбу едят — а потом оживившись, сказал — но жареный в углях ленок или сич, доложу я вам, та еще картина, их закладывают выпотрошенными, но в чешуе, присыпают углями и через семь — восемь минут рыба уже готова, достают из углей и на вид она, как головешка, продукт пожара, жертва, сгоревшая дотла, а как разломишь по хребту, доберешься до нутра, такой белизны нет и у сахара, а мягкости и сочности — и у южных плодов; его жена сказала — но ведь еще жарят на пруте; он сказал-да, жарят на пруте, берут тонкий, длинный прут, зачищают его, затачивают, рыбе надрезают брюхо от головы до хвоста, головы бросают собакам, потрошат, потом разворачивают её, знаете, как книгу, посередине и в развернутом виде, насаживают на прут, который не дает ей сложиться, принять природную форму, такое вот рыбное распятие, и втыкают прут в землю, под наклоном к огню, к углям — сказал, прихлёбывая чай — да тайга, тайга — и сказал — там с костра, с речной воды и чай другой, он с пылинками пепла, да, чаинки и пылинки пепла — а потом сказал — а к чаю они собирают бруснику, засыпают её в котелок, немного толкут, вешают котелок над огнём, кипятят пять минут, и брусничное варенье готово — без воды, без сахара — и хлеб у них там серый, с кислинкой, как будто специально для такого варения…
Когда любители преферанса перебрались в соседнее купе, Одинг вернулся к прерванному рассказу о своей жене: я видел мужчину, к которому она ушла, сказал он, город-то сравнительно небольшой, а она никакого секрета из этих отношений не делала, да и не могла делать, тем более, что жили мы почти по-соседству — сказал — видный мужчина, инженер, оба они были красивы, когда шли под руку, как будто единое целое, была в них, знаете ли, неразделимая гармония кентавра — и, закуривая, сказал — а через год она вернулась ко мне, так же, как ушла, моей женой, вернулась беременной, кентавр распался — и сказал — понятно, что нам надо было уезжать, но она хотела родить ребёнка именно там; он сидел и курил, и его худое тело, словно потрескивало, как древесина всех пород в сильный мороз, как в сильный мороз потрескивает пластик и тонкий металл.
Он сказал: она родила в Белогорске, родильный дом там был один, но ребёночек явился на свете ненормальной сухостью кожи — потом сказал — она народила его, как влажность горла нарождает сухость слова, народила в мир, начавшийся для него с вазелина — сказал — а в остальном — рост, вес всё было в порядке; я спросил — а что отец? Одинг сказал — ну, отец его сделал то, что следовало сделать нам, он уехал, так, по-моему, на сына и не взглянув, думаю, сделал вид, что не верит в своё отцовство — и спросил — у вас есть дети, наверное, уже и внуки?; я сказал — нет ни детей, ни внуков — и сказал — даже женат не был; какое-то время он молча смотрел на меня сквозь сигаретный дым и, не дождавшись разъяснений, сказал — у меня тоже никого нет, кроме этого ребёнка — и сказал — ему уже двадцать шесть лет, — а потом сказал, как бы извиняясь — вы совершенно седой, а я вот нечего не могу с собой поделать, всегда думал, что настолько седым ничто и никто не может сделать мужчину, кроме как многочисленные дети, — а потом, словно спохватившись, удачно преодолев край мысли, перешагнув пропасть непонимания одним гигантским шагом, сказал — нет, первое время Мария была хорошей матерью, хорошей женой, но больше детей она не хотела.
Читать дальше