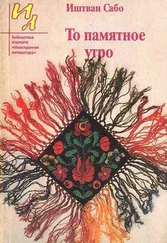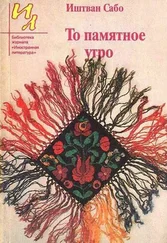— Ешьте чигу! Ешьте чигу! — хором кричат им гости.
Легко сказать: ешьте. Эти два куска теста — такие огромные, что и в рот не возьмешь. А потом, это не просто чига: она еще и другое кое-что означает. Краснеет Марика, так ей стыдно. Не знает, куда деваться, будто сквозь строй ее гонят. А что поделаешь? Против обычаев да против желания гостей не пойдешь ведь.
А все-таки бунтует в Марике гордость, не позволяет съесть проклятую чигу — хоть и нет в ней ничего такого: тесто как тесто. Всю чигу из одной муки стряпали, в одной воде варили. И однако же, кажется Марике, будто гости, хоть и на чигу смотрят, а совсем другое хотят увидеть. Будто стоит она на какой-то высокой лестнице, ветер раздувает ее подвенечное платье, а гости внизу толпятся, смотрят на нее, задрав головы, и ухмыляются, облизываются…
Только Марика в жизни не позволяла еще никому над собой смеяться, и теперь не позволит. Подцепляет она чигу ложкой и перебрасывает на ложку Ферко. Ешь сам, что заварил.
— Здорово! Молодец! — кричат гости. Вот это невеста! Нашла-таки, как из положения выйти.
— Эге!.. Эге!.. — суетится Ферко, и кажется ему, что самое лучшее, если он сейчас на своем поставит. Подхватывает он чигу, кладет обратно невесте в ложку… то есть хочет положить, да Марика свою ложку отдергивает, и чига шлепается в тарелку, выплескивая горячий суп на скатерть.
— Эх, быть скоро крестинам! — вопит Лайош Ямбор, которому теперь приходится каждый раз глаза жмурить, когда голову хочет куда-нибудь повернуть. Потому что очень уж много он выпил, не повертывается голова просто так.
— О… — только и произносит на это Марика. Кладет свою ложку в тарелку; по всему видно, больше в жизни не сможет она даже смотреть на чигу.
Ферко совсем перепуганный сидит. Он хотел как лучше. Как обычай требует. Откуда ему знать, что и обычай обычаю рознь, и уж если нет любви между женихом и невестой, так и обычай им не поможет. С его-то стороны, конечно, любовь есть, да еще какая. Это-то и беда… Стараясь угодить Марике, наклоняется к ней, говорит:
— Ешь. Смотри, как вкусно…
— Бросьте, — отвечает Марика и ест. Давится, а ест. Нельзя не есть, хоть с души воротит. Ест и вкуса не ощущает — словно не в рот кладет, а через плечо кидает.
А веселье вокруг растет, словно вода в половодье: Марике даже подол хочется прихватить, будто через лужу переходя. Или на лавку встать, чтобы не захлестнуло ее это пьяное половодье… или убежать и спрятаться у цыган-музыкантов за спинами, как когда-то в детстве, когда сестры ее с шумом, с треском замуж выходили. Да что убежать: ей и с места нельзя сойти. Сидеть и сидеть, пока все не кончится. Свадьба бурлит, шумит вокруг. Ради нее это все. Она здесь теперь — свет в окошке.
Не к кому-то ведь, а к ней устремляются со всех сторон, опутывают, ощупывают любопытные, масляные, хитрые взгляды…
Кончился псалом; первый сват встает, смотрит вокруг со значением, берет стакан, отодвигает его подальше, говорит музыканту:
— Сыграй-ка, что ли… «Вырос я в Шаррете»… — а остальное одними губами договаривает. И рукой такт отбивает. Будто считает что-то про себя. Садится.
Первый скрипач оглядывается на остальных музыкантов, смычком касается струн и, дрогнув коленом, начинает играть. Хорошая песня, душевная. И к тому же старая-старая.
Благословлять стол начинает первый сват, за ним идут все по порядку. Обряд этот совершается так: ставят на стол пустую тарелку, и каждый гость заказывает цыганам свою песню, а потом бросает в тарелку заранее приготовленные деньги. Кто пенгё, кто два. А кто — всего двадцать филлеров. Кто пенгё кладет, тот повертит монету, поблестит ею, чтобы все видели; другие кидают быстро, из кулака — лишь бы зазвенело. А там, в тарелке-то, не видно, кто сколько положил; там все вперемешку.
Чем больше песен сыграно, тем больше денег в тарелке.
Есть за столом и такие, кто намерен сбежать от благословения стола. Чтобы денег не отдавать. Особенно ребята-подростки. У них, известно, карман тощий. Если и есть какая-никакая мелочишка, она на сигареты нужна; так что, уж коли давать музыкантам, то потом давать, чтобы поплясать можно было за эти деньги.
— Слышь-ка, кореш, идем, отольем немного, — говорит Лайош Виг дружку своему, Тарцали. Поднимает ногу, подхватывает ее под коленом, через лавку переносит. Выходит. Потому что скоро его очередь песню заказывать. И можно быть спокойным: не вернется, пока не минует его эта очередь.
А кореш его, Имре Тарцали, упрямо в стол глядит, не шевелится. У него-то деньги есть. И немало. Только невесело у него на душе. Едва не попался он, когда деньги добывал. А может, еще и выплывет наружу его темное дело. Еще бы: четыре курицы с петухом… со двора Яноша Папа. Да уж очень плохо парню без денег. Теперь, выпив немного, дает себе клятву, что никогда больше на такое не пойдет… Видно, одни на дурные дела с пьяной головы решаются, другие, наоборот, с трезвой.
Читать дальше