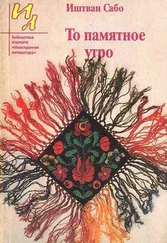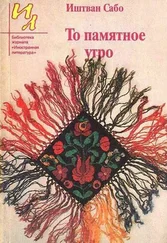— Спасибо, господи, за еду и питье, да будет славно имя твое!
Все садятся на свои места.
Теперь уже всерьез начинается пир.
Горяч суп, только с огня — но так оно вкуснее.
Легкий жир плавает на поверхности, горячит людям кровь. Лайош Ямбор, весь распаренный, тянется за второй порцией — да вот досада: ложка по дну миски стучит. Бегает глазами вдоль стола. «Подвиньте-ка сюда вон ту миску», — хочет сказать, но до того торопится, что даже выговорить не может как следует, заикается. Получается у него что-то вроде: «Эк… эк… датумиску…»
Шандор Пап ест чигу с хлебом: он так любит, в армии еще привык. Да что говорить, все хорошо едят, никто сложа руки не сидит. Вот уж и миски опустели, гости рты вытирают кто чем. А шафер тут как тут, со вторым блюдом — паприкашем. Опять становится перед Яношем Багди, первым сватом, и говорит новый стих:
Пока суп мы ели, вот что приключилось:
На кухню овца зайти ухитрилась.
Пришлось ее сварить да положить на блюдо.
Просила сказать она: мол, добрые люди,
Сделайте милость, ешьте меня скорее,
Выбирайте, милые, куски покрупнее.
Так что не стесняйтесь, дорогие, ешьте,
Да в чужие тарелки, смотрите, не лезьте.
Приятного вам аппетита.
Паприкаш, стало быть, приехал. И такой паприкаш — всем паприкашам паприкаш. Блюда выстраиваются на столах рядами, подливка в них красная, словно огонь, а мясо такое, что взглянешь на него и поймешь: нет на свете животного лучше овцы. Кто баранину не любит, тот совсем пропащий человек: может могилку себе рыть да панихиду заказывать.
А самое лучшее еще впереди. Жареные куры с кашей.
— Птицу несите, — отдает команду вдова Пашкуй и тут вспоминает, что они здесь двое главные, она и Мари Чёс. — Слышь-ка, Мари, можно нести, что ли? — спрашивает.
Та заглядывает в горницу. «Можно», — говорит.
Подавальщики рысью бегут к соседям. Одни — направо от ворот, другие — налево, и тащат противни с курятиной. Запах жареной птицы разносится по улице, на другом конце деревни слышно, наверное. Не удивительно, что в темноте перед домом суета началась. Будто голодные волки пришли на запах.
— Эй, дай кусочек… — шепчут то здесь, то там. Одни подавальщики говорят: «Идите, дяденька, подальше», другие просто: «Иди к дьяволу». Это уж как в темноте разберешь. Один лишь Тарцали сжалился над попрошайками.
— Эй, где вы тут? Берите быстрей. Да тихо.
И шаги замедляет. Возле него толкотня начинается, куски курятины один за другим вспархивают с противня, как живые. Последний кусок уже возле самых сеней кто-то схватил. Глядит Тарцали на пустой противень и молча ставит его к стене, на землю. За другим отправляется. Тут на всех хватит. А не хватит, так и свадьбу не надо было устраивать.
Снова выстраиваются в горнице подавальщики: один — с птицей, другой — с кашей, опять с птицей, опять с кашей. Понятно, и здесь без присказки нельзя.
Нету этой каши в целом свете краше,
Кто нынче пожаловал на свадебку нашу,
На всю жизнь запомнит эту кашу.
Густая, горячая да маслом полита,
Такой каши, ей-богу, нечего стыдиться.
Каша для вина — добрая сестрица.
А кто вина не пьет — она и так сгодится.
Петухи да куры над кашей летели,
Все до одного в котел залетели.
Съешь курицу с кашей — будешь сыт неделю,
Кушайте, гости, пока не сомлели.
Раньше помалкивали гости, слушая шафера, а теперь пересмеиваются, переговариваются. Зубочистки делают из спичек, в зубах ковыряют, посматривают на курятину да на кашу. Ишь, какой молодец этот шафер. Шпарит как по-писаному. Интересно, кто это сочинил?.. За курятиной тянутся довольно лениво, а кашу и вовсе без охоты пробуют. Что делать: не лезет больше. Из-за двери вдруг доносится какой-то крик, суета; однако вскоре шум как возник, так и стихает. Оказывается, шафер нес кувшин, да налетел на цимбалиста и все выплеснул. Гости повернулись было туда посмотреть; потом едят дальше. Хм. Все ж хороша каша, ничего не скажешь. А уж курятина!..
Словом, опять во вкус вошли. Едят, словно целую неделю маковой росинки во рту не держали. Будто и не было перед этим супа с чигой да паприкаша. Выберет гость кусок курятины, какой на него смотрит, аккуратненько подцепит его ложкой, встряхнет немного, чтобы лучше лег, не свалился, положит себе на тарелку. Поглядит, поглядит на него, потом возьмет за два конца руками — и пошел зубами работать. Обгрызенную кость подержит, подержит в руке — и, смотришь, нет ее уже, под стол обронил. У некоторых, может, и шевельнется в мыслях, что, мол, нехорошо кости на пол бросать — да куда ж их девать тогда? Не в карман же складывать…
Читать дальше