«Вдруг прекратился грохот колес по тряской мостовой, люди размахивали руками, их губы двигались, но слов не было слышно, задрожали дома и воздух, потому что все тридцать колоколов Вюрцбурга раскатисто заблаговестили к вечерне, и среди всех колоколов выделялся могучий и далеко слышный соборный колокол; он отзвонил свое и смолк.
Снова послышались людские голоса и четкий шаг взвода запыленных пехотинцев, маршировавших по мосту.
Город был залит вечерним солнцем. Красноватое облако нависло над серой крепостью на вершине холма, а на крутых склонах его в королевском винограднике мелькали платки сборщиц винограда: они снимали урожай. Пахло водой, дегтем и ладаном».
Вот на этой-то полустранице, преодолевая бесчисленные приступы отчаяния, Михаэль три месяца учился писать. Он твердо решил писать так и дальше- чтобы читатель ясно видел и слышал все, что он читает, — ведь только тогда он поверит прочитанному. На отдельном листе Михаэль с восторгом вывел заглавие. Он назвал свой роман «Разбойничья шайка».
Лиза болела и не вставала с постели, Михаэлю пришлось поэтому вести также и домашнее хозяйство. Он ухаживал за Лизой, когда были деньги — закупал провизию, готовил обед, мыл посуду, прибирал в комнате, а после всего этого, полный новых мыслей, садился за письменный стол. Чем больше у него было посторонних дел, тем больше и лучше он работал — он успевал соскучиться по работе, а кроме того, он не переставал обдумывать какое-нибудь отдельное предложение, даже когда ходил за покупками или стряпал.
Иногда, зажав в руке половник, яйцо или тряпку, он подходил к столу и заменял какое-нибудь написанное слово другим, пришедшим ему в голову на кухне. Ни на минуту он не прекращал работы над своим романом. Иногда он вскакивал ночью десять раз подряд, чтобы записать новое или исправить старое предложение.
Труднее всего было — перед тем как идти за покупками или взяться за стряпню — добывать тридцать пфеннигов на рыбу или мясо и десять пфеннигов на десять ежедневных сигарет — самых длинных и самых дешевых. Часто он, потеряв несколько часов, возвращался с пустыми руками и с новыми мыслями. Зато владелец молочной целый месяц отпускал в долг яйца, масло, сыр и молоко, а беспокоиться уже двадцать девятого о том, как заплатить по счету первого, было бы по меньшей мере нелепо.
Но как приятно было сидеть за письменным столом и чувствовать всем существом, что Лиза лежит в соседней комнате, вполне доверившись его любви и заботе.
Она слышит его смех и под конец сама начинает смеяться, но он все смеется и смеется, тогда ей кажется, что он сошел с ума, и, накинув халатик, она спешит к нему. Он рассказывает ей, о чем он только что написал. Двенадцатилетние разбойники воровали виноград в королевском винограднике, их привели к судье, и судья говорит Олду Шэттерхенду: «Ах ты, лягушонок паршивый, ты воровал виноград у нашего короля. Такой маленький, и уже воровать!» А Олд Шэттерхенд на это отвечает: «Я еще подрасту».
Михаэль смеялся и горевал вместе с героями своей трагикомедии, взятой из жизни. Это было трудное время, но и самое счастливое за все прожитые годы. Во-первых, с ним была Лиза. И если к тому же он верил, что написанное утром предложение получилось как надо, он забывал про все самые тяжелые заботы, день считался удачным, Михаэль прекрасно чувствовал себя, он сиял от радости, и владелец молочной не мог устоять перед этим потоком счастья и силы и поддавался на уговоры еще месяц бесплатно кормить их яйцами.
Лишь через несколько недель Лиза смогла пойти с ним в Западное кафе. За столом, где сидел Шмидт со своими друзьями, уже шла оживленная беседа о литературе. Других тем в те времена вообще не признавали. Целую ночь они могли спорить по поводу одной-единственной стихотворной строки или о власти над словом и о влиянии какого-нибудь классика. Искусно построить фразу казалось делом несравненно более важным, чем постройка нового броненосца или железной дороги, имеющей стратегическое значение. Все события, которые вызывали накал политических страстей в правительственных кабинетах Европы, для филологов Западного кафе попросту не существовали. Единственно неисчерпаемой темой для них была литература.
Сегодня речь шла о Готфриде Келлере. Шмидт очень любил Келлера и несколько дней тому назад назвал его гением в домашних туфлях. Журналист Эмиль Фактор, бывший при этом, небрежно сказал Михаэлю и Лизе, так, словно он сам только что это выдумал: «Готфрид Келлер — гений в домашних туфлях».
Читать дальше
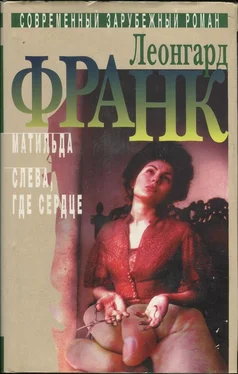



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




