Шмидт подскочил и сморщил нос:
— Прошу прощения, Фактор, но это мои слова.
Фактор был толстый и маленький, сидел он на самом краешке стула, чуть подавшись вперед и упершись обеими руками в колени, чтобы хоть носками достать до пола; он смущенно хихикнул, выпятил трубочкой губы и возразил:
— Ну как же, ваши! Мне это только что пришло в голову. Готфрид Келлер — гений в домашних туфлях. Он такой и есть, на мой взгляд.
Шмидт, как бы благословляя, простер руку и пошевелил пальцами:
— Поделимся, брат, — одна туфля будет твоя, другая туфля — моя, — и, совершенно довольный тем, что ему не только удалось доказать свое авторство, но даже и превзойти достигнутое, он благосклонно заприходовал смех окружающих.
— Неплохо сказано, как по-твоему, Лиза?
У него все еще был безукоризненный пробор, и только на макушке торчал хохолок — так бывало всегда, когда он выпьет и развеселится.
Писатель Франц Блей, высокий и элегантный, баловень женщин, беспечный ценитель всех земных наслаждений, хотя и напоминавший Савонаролу изможденным лицом аскета, прошел мимо их столика. Он избегал встречаться глазами со Шмидтом, ибо Шмидт ненавидел его как только мог, — а мог он совсем немного.
Шмидт, чувствительный, словно он родился без кожного покрова, считал Блея своим антиподом и высмеивал его при каждом удобном случае.
В тот вечер Шмидт впервые рассказал историю — скоро ее узнали все — о том, при каких обстоятельствах он в джунглях Южной Америки произнес имя Франца Блея. Его брат находился по поручению аргентинского правительства в исследовательской экспедиции и наткнулся на индейцев, которые никогда прежде не видали белого человека. Он, Шмидт, сопровождал своего брата.
При этих словах Шмидт поднялся со стула, лицо его пылало.
— С огромных деревьев гроздьями свисали орхидеи, как у нас на Рейне виноград. Тысячи голых индейцев, сидевших на корточках, окружали полянку. Вверху висел месяц, величайший бродячий актер! Тут я вышел на середину круга и воскликнул: «Культура!» Они повторили трагически, как Дузе: «Куль-ту-ра». Вдали завыл ягуар — суеверные индейцы в полнолуние боятся его. Потом я воскликнул: «Ге-е-е-те!» И голос девственной природы отозвался чисто и отчетливо: «Ге-ге-те!» Тут Шмидт, серьезный как сам Господь Бог, простер вперед руки: «Шекс-пир!» И в джунглях раздалось тысячеголосое: «Шекс-пир!» Снова завыл ягуар, и тут, братья, я воскликнул: «Франц Блей!» В ответ прозвучало что-то совершенно нечленораздельное: «Фрблю-ю-ю!» Да, друзья мои, тут даже у природы не хватило голоса.
Блей, сидевший за соседним столиком, весело рассмеялся. Он был очень уравновешенный человек, очень приветливый, всегда готовый помочь друзьям. Многие начинающие писатели были обязаны напечатанием своих первых произведений тому влиянию, которым Блей пользовался среди издателей.
Обер-кельнер Ган, приземистый толстяк с коротко остриженной круглой седой головой, беспокойно сновал между столиками. Было уже три четверти седьмого. В семь часов начнут прибывать солидные, платежеспособные буржуа, и надо освободить и накрыть их излюбленные столики. Каждый вечер перед Ганом вставала одна и та же задача — пересадить своих артистов за столики поплоше, чтобы освободить место для платежеспособных буржуа, которые, со своей стороны, только ради этих «сумасшедших артистов» и ходили в Западное кафе. Наконец Ган решился сказать, что теперь пора освободить столики для других гостей.
Рассерженный Шмидт закричал на него:
— Если вы хотите держать зверинец, заведите тогда место для зверей.
В кафе вошли Фердинанд Гардекопф, не снимавший даже в самые жаркие дни шерстяного шарфа, дважды обмотанного вокруг шеи, и писатель-художник Джон Гекстер, с моноклем, болтавшимся на шелковом шнурке; оба сели за столик. Ган безнадежно побрел к стойке.
Гардекопф и Гекстер, как и их приятель Гуго Люк, были одержимы жаждой творчества, но не имели для этого достаточно сил. Сами они создавали мало. Но у них была своя роль в искусстве — они принадлежали к числу тех немногих рассеянных по всей Европе знатоков, которые с непогрешимой точностью сумеют обнаружить великое и подлинное в современной литературе, которые своим преклонением поддерживали жизнь в таком незаурядном явлении, как творчество Рембо, до тех пор, пока, спустя несколько десятилетий, его не открыли в Салоне и в Америке.
Около двух часов ночи Рёрен, съев по обыкновению самое яркое пирожное — розовая глазурь, а в середине ядовито зеленый цукат — и запив его пильзенским пивом, потащил к себе своего друга Шмидта и прочитал ему один роман из своего сундука.
Читать дальше
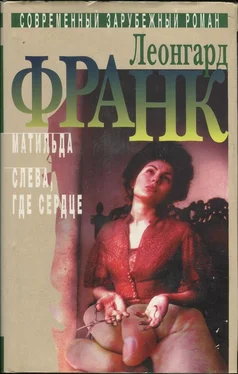



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




