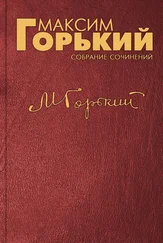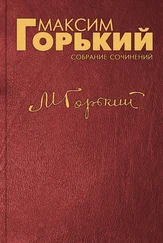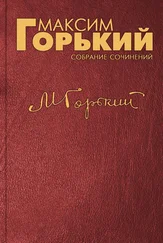Я не была при нем лишней, хотя рядом, сменяя один другого, всегда находились присланные из СССР доктора. Не зная удержу в своем врачебном раже, они назначали ему вредные терапии, и мне приходилось быть начеку и незаметно их саботировать. Едва приехав, каждый новый врач с порога отметал назначения своего предшественника и придумывал что-нибудь совершенно новое, требуя строгого соблюдения своих предписаний, хотя все они знали, что от туберкулеза лекарства нет. Надо просто следить за тем, чтобы пациент не заболел бронхитом, не простужался и достаточно хорошо питался. Я видела пациентов, которых сгубило богатство, они слишком щедро тратились на врачей. И для них было бы гораздо лучше оставаться бедными. На Алексее уж точно паразитировали вовсю. Не всякий в Советском Союзе имел возможность отправиться за государственный счет за границу и неделями, месяцами как у Христа за пазухой жить в Сорренто да кататься туда-сюда по Европе. Когда Алексею делалось плохо, что случалось нередко, я вкалывала ему камфару, и ему становилось легче. Уколы ему всегда делала я. Вводить лекарства было моей обязанностью, светила медицины такими мелочами не занимались, они даже ухо к его грудной клетке не прикладывали, а могли бы услышать там совершенно невероятные хрипы да свисты. В доме даже стетоскопа не было, пришлось умолять, чтоб купили.
Вечером, когда Тимоша привела меня на террасу, доктор Хольцман, знаменитый пульмонолог, который, как я заметила, очень уютно чувствовал себя в домашних тапочках, сидя протянул мне свою пятерню и тут же отвернулся. А профессор Сперанский обаятельно улыбнулся и, вперив глаза куда-то вдаль, сказал: “Много слышал о вас, сестричка”.
Сперанский беспрерывно о чем-то философствовал. А это ужасно, когда врач философствует, хуже – только когда этим занимается писатель. У Алексея такое пристрастие тоже было, что их и сблизило со Сперанским. Они любили поговорить с ним о вечной жизни, о том, что в ближайшие годы будет найдено лекарство от смерти. Алексей в это верил, хотя сам же смеялся над своей глупостью. Он активно продвигал идею создания Института человека, и несколько лет спустя Сперанский стал одним из руководителей созданного в Москве Института экспериментальной медицины.
Алексей верил в возможность воскрешения умерших. И был в этой вере не одинок. Уж на что умный человек был Красин, давний друг Марии Федоровны и Алексея, но и он всерьез полагал, что со временем можно будет воскресить Ленина. Это была его идея – законсервировать тело, чтобы, когда созреет наука, можно было его оживить. А ведь как сокрушались в восемнадцатом году в Петрограде Красин и Алексей – дескать, какие кретины эти большевики, в особенности Ленин, Каменев и Зиновьев, которые ни в чем ни черта не смыслят и наносят громадный вред. Перед этим Красин работал инженером в Германии, и его сильнее, чем многих других, бесила некомпетентность. Зиновьев на заседании ЦК, где Красин ругал дилетантов, заявил, что слово “некомпетентность” надо вышвырнуть из лексикона. Красин не мог добиться, чтобы страна взяла иностранный заем. Индустриализации – да, внешним займам – нет, в ярости заявил Ленин, которому было неважно, что мрет народ. Заимствования – это ограничение власти большевиков, а Ленина интересовала лишь абсолютная власть и больше ничего.
К ужину Катальдо надел на голову белый колпак. Он уже двадцать лет назад был поваром на Капри, и теперь фашисты разрешили ему опять служить Алексею. Он много болтал со мной. Когда он поинтересовался у Алексея, как он зовет меня, тот перевел Чертовку на итальянский, получилось – Diàvola. Но Максим не был этим удовлетворен и добавил еще уменьшительный суффикс. Вообще-то такого слова в итальянском нет, но дочери герцога были от него в восторге, так и стали звать меня Дьяволиной.
Местные девушки, в белых передниках и наколках, вносили в столовую тяжелые блюда со всякой снедью. Под восторженные возгласы гостей Катальдо раскланивался, будто фокусник. Я видела множество всяких креветок и крабов, в Крыму их было достаточно – привозили во льду из Одессы, но от того, что я увидала здесь, и у меня глаза разбежались. В первый день я ела нежнейшее мясо морских гребешков – они называют их гребешки Сан-Джакомо. А всего за пять дней до этого нам в больнице давали гречку, да и той в обрез. На завтрак и ужин – каша, а на обед щи с ломтем хлеба – и больным и врачам одинаково; главный врач получал два ломтя.
К ужину в “Иль Сорито” собиралось много гостей. Нередко совсем незнакомые из отеля “Минерва”, которым хотелось поглазеть на местную знаменитость – писателя из России, из книг которого они не прочли ни строчки и никогда не прочтут. Иногда приводил кого-нибудь из друзей или родственников наш сосед Руфино. Они ели, пили, болтали на разных языках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу