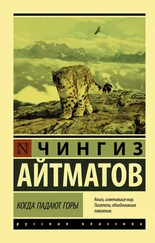Он оказался на заводе, проделав серию автоматических действий. Две ступеньки автобуса, толкучка, опять две ступеньки автобуса, проходная, когда ноги сами собой начинают идти бодро, двадцать ступеней до второго этажа, узкая кабина для переодевания (безошибочное узнавание своей, четырнадцатой слева, среди тридцати кабин-близнецов). Сняв одежду и надев свои синие доспехи, он оказался в широком пространстве перед цехом, среди которого люди казались маленькими. Последние минуты перед началом рабочего дня, когда утренний ветер вливает в тела бодрость, минуты между домом и рабочим местом.
Андрею были необходимы эти минуты. Он в это время словно отделял тревоги от паники, радости от довольства собой, давал оценку событиям, он как бы приводил в порядок самого себя.
— Каждому человеку необходимо время для созерцания, — говорил философ. — Он должен вглядываться и в себя, и в окружающих. Если этого не делать, то какой бы обычной ни казалась его жизнь, тысячи мелочей обступят его. Он не уловит момента, когда необходимы решительные действия. Течением его жизни будут руководить чужие толчки, а не его собственные устремления. Желание размышлять должно стоять перед нами, как таблички на вокзалах. «Осмотрись, прислушайся и перейди». Нужно спокойно осмотреться, а не слепо бросаться вперед, не зная, что тебя ждет — грохот, тишина или удар.
Андрея не покидало чувство тревоги, когда он слушал по утрам в автобусе оживленные разговоры о футболе или компаниях. Он мечтал ездить в автобусах, где царило бы мудрое и глубокое молчание. Скромность не позволяла ему считать, что он достиг того внутреннего настроя, о котором рассуждал философ. К тому же он считал, что ему не нужно делать решительных шагов, что его волнения обыденные, житейские. Наверно, философ имел в виду все же каких-то иных людей, не таких обыкновенных, как он. Андрей проработал пятнадцать лет на одном и том же месте, любил только одну женщину, не ездил за границу… О каких решительных шагах или действиях может идти речь? То, что несколько лет назад его сделали бригадиром, что он получает награды — не шаг, а скорее тот толчок извне, о котором говорил лектор. Пришло его время. И другие становились бригадирами, и другие получали награды. Андрей знал, что всегда будет работать хорошо и вряд ли у него возникнут неприятности с руководством. Что особого может случится в его жизни?
Солнце начало пригревать, но казалось, что этот свет и тепло несет заводу не солнце, а гул человеческих голосов. Андрей давно заметил связь между оживлением и светом. Доковая камера наполнилась за ночь водой, и большой некрашеный корабль из ржаво-красной стали, находившийся на ее дне, сейчас поднялся высоко над головами людей. Вода в камере, неподвижная и покорная, приобрела цвет корабля. Андрею захотелось показать дочери эту красную воду.
Ему всегда хотелось показать дочери все то, что ему самому казалось необычным. Считая себя самым обыкновенным, ничем не примечательным человеком, он боялся, что такой может стать и его дочь, что окружающие не будут замечать ее. Ему хотелось, чтобы она выросла умной, уверенной в себе, совершала смелые поступки, говорила умные вещи, вызывая всеобщее восхищение. Будь у его дочери такой отец, как лектор-философ, она такой и стала бы. Эта мысль порождала в голове Андрея чувство вины, он напряженно всматривался в людей, в предметы и неожиданно для себя научился открывать то, чего другие не замечали: смену настроения на лицах людей, особые интонации голоса, оттенки чувств. Он не рассказывал дочери об этом особом мире, но старался направить ее внимание так, чтобы она сама открыла его.
Его мысли прервал Стоян из их бригады — у него были близнецы, хотя он сам еще даже в армии не служил. Стоян обнял его за плечи и увел от красной воды.
— Пошли, шеф, — сказал он. — Пошли, ты можешь опоздать и подать нам плохой пример.
Андрей засмеялся и пошел с ним, чувствуя, что его утреннее тревожное настроение окончательно испарилось, как тяжелое, но необоснованное предчувствие. Трудно было оставаться в плохом настроении при виде дверей цеха и сложенных в углу стальных листов — этот угол Стоян отвоевал для их бригады. То, что Андрей говорил дочери, он никогда не говорил членам своей бригады. Да и как он мог поведать им о своих молчаливых разговорах с лектором или о любви к жене? Его считали очень добрым, но лишенным воображения человеком. Никто не догадывался, что для истинной доброты тоже нужно воображение, потому что она любит мир в увиденных и созданных ею красках, звуках и тонах. Впрочем, и сам Андрей разделял мнение других о себе. Он восхищался Стояном, который всегда находил меткое слово, не боялся показывать свои чувства, но выражал их таким способом, что никто не обвинил бы его в сентиментальности. Стоян говорил вслух, что очень любит свою жену, и когда холостяки, которые встречались порой с несколькими девушками сразу, посмеивались над ним, отвечал:
Читать дальше
![Чингиз Айтматов На солнечной стороне [Сборник рассказов советских и болгарских писателей] обложка книги](/books/422422/chingiz-ajtmatov-na-solnechnoj-storone-sbornik-rass-cover.webp)

![Чингиз Айтматов - Прощай, Гульсары! [сборник]](/books/27189/chingiz-ajtmatov-prochaj-gulsary-sbornik-thumb.webp)