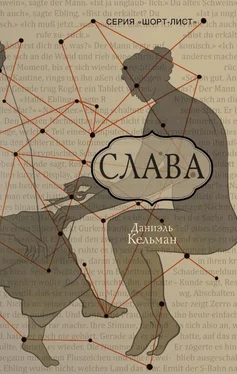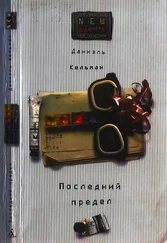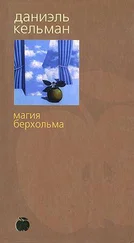Третьей оказалась открытка с Тенерифе, без конверта. Там теперь проживала Аурелия с обоими детьми. Дом, до недавнего времени бывший их общим пристанищем, теперь принадлежал в первую очередь ей, и прошел уже почти год с тех пор, как он в последний раз видел Луиса и Лауру. Все это время он сам себе удивлялся: отчего тоска по ним не становится сильнее? Чтобы найти этому объяснение, он добавил в «Спроси у космоса…» целую главу о том, что мы жаждем присутствия только тех людей, у которых вибрации души не совпадают с твоими собственными. Но если человек близок тебе настолько, что составляет часть твоего «Я», совершенно необязательно, чтобы он все время был рядом: ведь все, что чувствует он, чувствуешь и ты, вне зависимости от расстояния; все, что мучает его, мучение и для тебя, а всякий разговор между вами – лишь избыточное подтверждение само собой разумеющегося. Где-то с полминуты он разглядывал картинку на лицевой стороне – бухту, горы, флаг и чаек; потом, бросив взгляд на две крошечных подписи, отложил и открытку.
Четвертое послание было адресовано ему с. Анжелой Жуан, настоятельницей кармелитского монастыря Провидения Божия в Белу-Оризонти. Во имя их давней дружбы (то ли его подводила голова, то ли ее – Мигель не мог припомнить, чтобы они хоть раз встречались) и во укрепление духа ее и сестер она просила его послать несколько строк в ответ на теодицейный вопрос: отчего на свете существует страдание, отчего – одиночество; отчего, наконец, существует в человеке отдаленность от Бога – и отчего же при этом принято полагать, что мир устроен наилучшим образом?
Он в раздражении затряс головой. Скоро пора будет нанимать новую секретаршу – видно, и эта уже не справляется с перегрузом. Столь обременительные просьбы не должны были попадать на его стол никакими путями.
Солнце уже почти опустилось за горизонт. Корабли отбрасывали неестественно длинные тени, вода была окрашена кровью, на небосводе, дрожа, полыхало багряное пламя. Бесчисленное множество раз он наблюдал из этого окна закат, но всякий раз это зрелище захватывало его, словно впервые. Ему чудилось, будто на его глазах проводится сложнейший эксперимент и каждый вечер существует риск, что он окончится катастрофой. Погруженный в раздумья, Бланкус выпустил из рук письмо, взял пистолет и, как и в прошлый раз, три дня тому назад, инстинктивно попытался нащупать предохранитель, пока не припомнил, что у глока он совмещен со спусковым крючком. Направив ствол на себя, он взглянул прямо в дуло. Мигель уже не раз так делал, как правило, по вечерам, где-то в это же время, – и, как и всякий раз, он ощутил, как на лбу выступил пот. Отложив в сторону оружие, писатель включил компьютер, подождал, пока он, то жужжа, то умолкая, наконец загрузится, и принялся сочинять ответ.
Почему он вообще решил ответить, он и сам не знал. Возможно, из вежливости – ведь на вопросы полагается отвечать; возможно, из-за того, что пожилые женщины в монашеском одеянии, сколько он себя помнил, всегда вселяли в него неописуемый ужас и почтение. «Дорогая матьнастоятельница, благословенная и достопочтеннейшая, Богу оправдания не нужны: жизнь ужасна, а красота ее беспощадна, и даже мир пропитан смертью; и вне зависимости от того, существует Бог или нет – о чем я никогда не считал возможным судить, – я нисколько не сомневаюсь, что моя жалкая кончина не вызовет у Него ни малейшего сожаления – равно как и кончина моих детей, или даже ваша, достопочтенная мать, – при всей надежде на то, что до этого дня еще далеко».
Он задумался, прищурившись, посмотрел на полыхавшее за окном пламя заката, запрокинул голову и сделал глубокий вдох. Вслушался в тишину. Негромко жужжал кондиционер. Бланкус продолжил писать.
Писал, покуда садилось за морем солнце, в последний раз обдав его воды жаром и наконец угаснув; писал, покуда воздух полнился темнотой, словно некой тончайшей материей; писал в то время, как далеко внизу все четче проступали огоньки, а черная гладкая поверхность неба сливалась воедино со склонами гор. Когда он поднял глаза, уже наступила ночь; рубашка его была мокрой от пота, капли градом катились по усам. «Драгоценнейшая настоятельница, нет никаких оснований для надежд. И даже если бы Богу нашлось иное оправдание, нежели его очевидное отсутствие, любой разумный аргумент померк бы перед масштабом боли – да даже перед самим голым фактом ее существования и фактом того, что в этом мире (попомните это, достопочтенная мать!) вечно всего недостает. Единственное, что может нам помочь, – это успокоительная ложь: такая, как, например, достоинство, которое воплощает собой ваше святейшество. Да пребудет оно с вами как можно дольше, дабы вы добрым словом могли вспоминать искренне вашего…» Он дважды щелкнул мышью; застрекотал принтер. Один, другой, третий, четвертый лист заполнили черные буквы. Взяв стопку в руки, Мигель Ауристус Бланкус погрузился в чтение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу