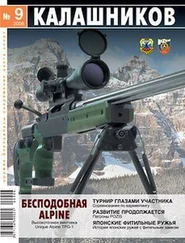Я настаивал на своем и отчаивался из-за того, что мне не верили. Плача от бессильной ярости, я даже забыл, что не являюсь автором рисунка. Я твердил, что карикатура нарисована мною. Мне очень хотелось быть тем, другим, у кого нет таких уважаемых родителей и кому сразу же поверили бы, в чем бы он ни сознался. Я мечтал оказаться подкидышем.
Отец сел за письменный стол. Мы знали — сейчас последует заключительная фраза, приговор. Как обычно, он сперва продолжил прерванное занятие (сейчас он вновь принялся писать, а когда читал, то брал отложенную книгу и откидывался в кресле) и, делая вид, будто погружен в работу, сказал ровным, безучастным голосом:
— Матери одной не собрать смородину. Ближайшие полмесяца будете ходить после обеда в сад и по три часа помогать ей.
Потом он поднял глаза и вопросительно взглянул на нас, словно его впрямь интересовало наше мнение о приговоре.
— Все. Можете идти, — сказал он наконец.
Мы вышли из кабинета. Мыском ботинка брат пнул меня под коленку, у меня аж ноги подкосились, и я оказался на полу.
— С ума сошел? — зашипел я.
— Идиот, — ответил он таким же шепотом. — Из-за тебя и мне придется собирать эту чертову смородину.
— Судьба. Ничего не попишешь, — пробормотал я и, несмотря на боль, постарался улыбнуться брату, когда он проходил мимо.
Я знал, что он злится на меня не по-настоящему. Судьба, как мы это называли, могла обернуться и против меня за какое-либо из его прегрешений. А пинка я заслужил за то, что соврал про иностранную монету.
Через четверть часа в нашу комнату зашла мать и поставила два ведра.
— Иду в сад, — сказала она и отправилась туда, не дожидаясь ответа.
Сидя на своих кроватях, мы разглядывали покореженные и помятые ведра, у которых вместо ручек были привязаны крепкие веревки. Два пустых ведра предстояло наполнить до вечера пыльными гроздочками смородины. Две долгих недели изо дня в день придется просидеть среди серых пожухлых кустов.
— Хорошо, хорошо. Но это еще не все.
— Это то, что я видел.
— Тогда вспомни, чего не видел.
— Это невозможно. Откуда мне знать.
— Постарайся. Ты видел многое. Больше, чем думаешь.
— Это было так давно.
— Нет. Твоя память все сохранила. Но если ты не будешь вспоминать, не продолжишь вязать эту бесконечную сеть, я кану в бездонную пропасть. Только тогда и тебя ничто не удержит.
— Все живое тленно. Нам всем придется умереть, и нас забудут.
— Неверно, совершенно неверно. Пошлая фраза. Пока существует человеческая память, ничто не было напрасным, ничто не тленно.
— Но тогда покой мертвых ничуть не лучше суеты живых.
— Конечно. Ведь и мертвые были когда-то живыми. Ты же не можешь их просто забыть. Что происходило тем летом?
— Я стараюсь вспомнить. Было…
— Что было? Говори!
Гертруда Фишлингер
Меня разбудили птичий щебет и жара. Я лежала неподвижно, не открывая глаз. Вспотевшей, невыспавшейся, мне было даже трудно дышать спертым, горячим воздухом. Все тело у меня как бы окаменело, а вены на ногах распухли, будто я целую ночь простояла. Я поглядывала на часы и, когда подошло время, встала, приготовила себе завтрак, выпила чашку кофе.
В тишине на кухне было слышно только громкое тиканье будильника. Я вымылась, оделась, накрыла стол для Пауля, поставила завтрак для господина Хорна на обшарпанный деревянный поднос. Перед уходом я постучалась к Паулю и дождалась, чтобы он ответил.
В магазине было душно. Я распахнула все окна и спустилась в подвал. Два дня назад тут раскололся бочонок с жидким мылом, оттого что шофер грузовика поленился отнести его и просто сбросил в люк. Каждую свободную минуту я теперь мыла пол, но все равно он оставался скользким, а вода мыльно пенилась.
В девять часов я отперла входную дверь для покупателей. Первыми пришли две старушки, которые живут этажом выше. Они купили немножко масла, муки и кофе, который я через жестяную воронку ссыпала в кофемолку и помолола. Говорили мы только о жаре. Обе старушки тоже пожаловались, что не могут спать.
Потом прибежали школьники. Они тайком удрали на переменке со школьного двора, чтобы купить печенья и штучных леденцов. Их выложенные на прилавок пфенниги были горячими и липкими.
Незадолго до обеденного перерыва пришли цыганки. Они бывали у меня дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цыганки всегда появлялись за несколько минут до того, как я собиралась закрывать дверь. Как всегда, пришла старая цыганка с узким крючковатым носом и редкими почерневшими зубами, а сопровождали ее две цыганки помоложе, с черными космами. Они отходили в сторонку и дожидались, пока я отпущу товар остальным покупателям. Только после того, как те скрывались за дверью, старая цыганка приближалась ко мне. Она показывала пальцем, что ей нужно, я насыпала кульки, положив их на весы, пока цыганка не показывала знаком — мол, довольно. Цены я писала на бумажке, одну под другой. После каждой записи цыганка поворачивала бумажку к себе, недовольно глядела на цифры и низким, гортанным голосом произносила:
Читать дальше