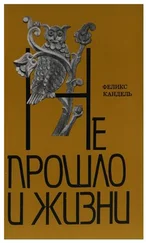Пошли толпой к тетке Анютке, слезно поклонились:
– Утишь поганца!
Стала она думать, как бы его заговорить-утишить.
Есть заговор на сглаз, есть на остуду и утихание крови, на укрощение злобных сердец, заговор от зубной скорби, от пищалей и стрел, от пуль и ратных орудий, от бешеной собаки, запоя и лихорадки.
Нет заговора от танка.
Пошла поутру, села возле, спиной к броне, вынула из котомки вязание – носок для Сани.
– Здравствуй, – сказала. – Ходить к тебе буду. Сидеть у тебя буду. Разговаривать. А ты не пугай меня. Не то с петли собьюсь, вязание попорчу.
Там и затихло, как приглядывалось.
– Я тебе чего скажу, – начала вязку. – Я при могилах прежде жила. Долгий свой срок. А тут – те же могилы, разве что некопаные.
И ненароком:
– Ты кто?
Промолчало.
– Венки плела, – сообщила. – При кладбище. Летом из цветов с травами, зимой из крашеной тряпки. Все, бывало, ко мне: из исполкома, из церкви, от народа... Тебя как звать-то?
Опять промолчало.
– Было, – сказала. – Учудила... Не ту ленту вплела. Не в тот венок. Партийного человека оскоромила под оркестр-речи: "Помяни мя, Господи, во царствии Твоем..." И стали меня сажать. За обман-диверсию...
Замолкла надолго. Спицами заиграла. Моток с нитками закрутила в подоле.
Шебуршнулось в танке, как на ноге переступило. Дыхнуло нешумно.
– Дальше чего?..
Она и не удивилась:
– Дальше – ничего. Немец пришел. Дом мой пожег. Теперь тут живу. В танке. Как ты.
Опять дыхнуло:
– Как я...
Вязала. Петли считала. К пятке подбиралась.
– Тетка... – спросило из нутра. – Ты по ночам воешь?
– Не. Чего выть? Я всем довольная.
– Тебе хорошо... По траве ходишь.
– Хожу, – согласилась. – Я хожу. Жизнь – лучше лучшего. Как звать-то?
– Гриша... – ответило тихо. – Гришка Неупокой, лейтенант... Мне бы на волю, тетка. Отсырел в танке...
– Ты кто есть?
– Не знаю...
– Человек?
– Не знаю...
Пожаловалось:
– Когда нельзя почесаться, очень хочется это сделать.
– Давай я почешу.
– Ты меня найди сперва...
Повыло маленько. Мухой позудело. Поахало в тоске.
– Тетка...
– Ну?
– Глянь в дыру... Чего видно?
Поглядела:
– Тебя, Гриша, не видно. Нету тебя совсем.
Обиделось. Забурчало изнутри:
– Нету... Кукиш тебе под нос! С кем тогда говоришь?
– И кукиша у тебя нету.
– Чего ж есть?
– Я почем знаю...
Помолчала. Пощурилась старательно. Пятку вывязывала.
– Поотстал ты, Гриша. К Господу пора. Через Забыть-реку. Перейдешь на ту сторону – всё перезабудешь, что на свете делалось.
– Не хочу! – заорало в голос. – Не желаю!..
– Твои все ушли, Гриша. На сороковой день. Смирись и ты.
Завыло. Заметалось в тесной глухоте.
– Не пойду!.. Не нагулялся еще!
А она как к маленькому:
– Чего тут делать? Только девок пугать. Ты, Гриша, без тела. Без рук-ног-головы.
Хохотнуло:
– А танк на что?..
Носок довязала – узелком на кончике.
Зубом нитку перекусила.
– Пойду, Гриша. Убираться пора. Саню кормить.
– А придешь?
– Приду. Куда денусь? С утречка и приду.
– Тетка... – окликнуло в спину.
– Ай?
– Девки у вас непорушенные?
– Не, Гриша. Девки цельные.
– Оха-ха!.. Вот бы меня туда...
Пришла назад. К обжитым танкам. Сказала своим:
– Дух там живет. Гришка Неупокой. Танковый лейтенант.
Девки взвизгнули. Рты пораскрывали от страха-любопытства. Глазом закосили в ту сторону. А Фенька-угроба дождалась потемок, поскакала нагишом – и в дыру.
Обмирала от ужаса, но лезла.
Чего было потом – она не запомнила, но ухало зато всю ночь, ахало и подвизгивало: танк приседал, ствол напрягал, фарами сверкал, искрами сыпал, маслом исходил через щели...
И выпалило напоследок из пушки – вопль духа победный – позабытым с битвы снарядом.
Ель расщепило надвое...
13
Наутро – птицы еще не пели – пробудился в горелом танке беспокойный дух Гришки Неупокоя.
Зевнул, сладко потянулся после ночи, руку протянул за помазком с бритвой... и взвыл в полный голос.
Не было у него рук, чтобы взять помазок. Не было щек, чтобы намылить густо. Не было глаз, чтобы осмотреть выбритый подбородок. Ничего уже не было.
От ярости-обиды-унижения стал Гришка бушевать, ревел-метался по клетке, заново проигрывал последний свой бой. Как попёр на рога поперек команды: "Вася, вильни!", смачно влепил с оттяжкой, будто кулаком в лоб, в смотровую щель, как влепили затем ему – в ухо, в поддых, по причинному месту: огонь, взрывы, горящее липучее масло, кишки на стороны, печень в клочья, легкие на разрыв, – а там тихое угасание в вонючей коробке, полной боли и тоски, стоны, проклятия, жалобы – мамочка моя, мама! – чтобы пожалела, вынула на травку, дала помереть на просторе...
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)