Рассоха суетливо хлопотала на кухне, спрашивала взглядом «как?», когда появлялся Галинин. Наклонившись к ней, он доверительно сообщал:
— Ни на что не жалуется и ничего, говорит, не болит.
Рассоха мелко-мелко крестилась, шепотком повторяла:
— Осанна, осанна…
Без нее, Рассохи, Галинин не справился бы с домашними делами. Она была двужильной, эта самая Рассоха, — и колхозных коров подоить успевала, и по дому управлялась, и Галинину помогала. Точнее, все сама делала: он только носился взад-вперед, хватал что попало, одним словом, мешал.
Ветлугин тоже навещал Галинина. Виновато помигивая, клял погоду, утверждал, что врач обязательно приехал бы, если бы не распутица, спрашивал, приходила ли фельдшерица, хмурился, получив отрицательный ответ.
— Страсть какой душевный! — восторгалась Рассоха и, воспользовавшись случаем, рассказывала, что толкуют в селе про его любовь к Ларисе Сергеевне.
Настроение почему-то улучшалось, когда она сообщала, что красивенькая учителка и москвич никак не поладят. В церкви он исподтишка разглядывал хорошеньких прихожанок, отгонял греховные мысли, а они лезли и лезли. Иногда возникало лицо Квашнина — искривленный рот, презрение в глазах. Пугаясь, он сразу же принимался думать о другом…
Вот уже несколько дней Галинин спал в гостиной, на диване. В то утро он проснулся рано-рано с какой-то необъяснимой тревогой в душе. Сразу пошел в спальню, прикоснулся к Лизе и тотчас понял — мертва. Внутри все сжалось, и — так почудилось — на несколько секунд остановилось сердце. Но он все же тихо окликнул Лизу и даже тронул. Ее голова бессильно скатилась с подушки. Галинину показалось, что все это происходит во сне, что он скоро проснется, расскажет Лизе про свой сон, и она, большая их отгадчица, растолкует, что к чему.
Присев на кровать, положил руку на плечо жены, тупо уставился в одну точку. «Бог дал, бог взял», — шевельнулось в мозгу. Так он сидел, может, пять, десять минут. Потом горло сдавила спазма, он уткнул лицо в ладони и разрыдался.
Все проходит, все кончается. Какой бы долгой ни была боль, она тоже пройдет. Обязательно наступит мгновение, когда душа отделится от тела, полетит туда, куда ей положено лететь, а если суждено еще пожить, то организм вытеснит боль или сам, или с помощью лекарства — это не так уже важно. Главное, больше не будет боли… Нет ничего вечного в жизни. Счастье похоже на вспышку: сверкнуло — и нет его. Боль продолжается дольше. Иногда кажется: вся жизнь — сплошная боль, а счастья в ней столько же, сколько алмазов в недрах. Нашел свой алмаз, подержал в руках, полюбовался, и все. Счастье — тот же алмаз. Приходит нежданно-негаданно и так же уходит. А почему уходит, как — не понять. Стараешься понять, бьешься-бьешься, и все впустую. Вся беда в том, что истины нет в тебе, той самой истины, которую ты ищешь и не находишь. А ведь где-то она должна быть, своя истина, для других, может быть, непонятная, а тебе нужная как воздух. Годы идут, а того, что ищешь, к чему стремишься, все нет. И, наверное, не будет. Ведь ты сам не можешь объяснить толком, чего хочешь… Странно устроена жизнь. У одних ничего нет, и они довольны, другим все отпущено, а они ропщут. Что лучше, что хуже? Кого славить, кого ругать? Одни так посоветуют, другие эдак. Видно, не наступит время, когда скажут: в человеке все открыто, все понятно. Себя понять не можешь, а других и подавно. Думаешь о людях как о себе и все хорошее и плохое, что есть в тебе, им приписываешь. Они, должно быть, тем же грешат. А истины все нет. Где она, твоя истина?
Выплакавшись, Галинин ополоснул лицо, оделся и вдруг подумал, что это он, он сам убил Лизу, убил в тот самый день, когда она выбежала на мороз в одной телогрейке. Это ужаснуло его, и он, потрясенный, чуть не грохнулся на пол. Он мог бы оправдать себя в собственных глазах, но не сделал этого — хотелось быть грешником, каяться и казнить себя. Двинул себя по лицу, со всего размаха двинул, даже больно стало, дернул бороду, и тоже не как-нибудь, а по-настоящему, долго-долго хлестал по щекам, приговаривая: «Негодяй, негодяй, негодяй». Физическая боль уменьшала душевные страдания.
Скоро должна была постучаться Рассоха. Пришли бы и другие прихожанки. Они омыли и обрядили бы Лизу, но Галинину захотелось сделать все самому. Для начала он решил переложить Лизу с кровати на раскладушку — надо было сменить постельное белье. Поднял и удивился — такой тяжелой оказалась она. Раньше была как перышко; он мог долго-долго кружиться с ней на руках по комнате, она счастливо смеялась тогда, нарочито испуганно вскрикивала: «Ой, уронишь!» — а он, осыпая поцелуями ее лицо, с шутливой угрозой говорил: «Обязательно уроню!..»
Читать дальше
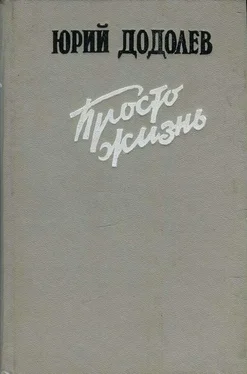




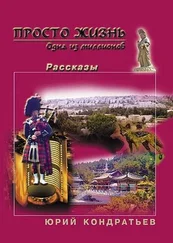



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


