С питанием становилось все трудней. Ввели продуктовые карточки. Бабушка хотела, чтобы я устроился на работу к Родиону Трифоновичу, но я решительно воспротивился. Пошел в отдел кадров второго ГПЗ и через несколько дней стал учеником строгальщика в ремонтно-механическом цехе. Встречаясь с Ленькой, кивал ему так же небрежно, как до недавнего времени кивал он мне. И хотя Ленька уже имел разряд, а я был лишь учеником, в моем сознании утверждалась мысль, что отныне мы не просто мальчишки, а рабочий класс.
Цементный, в пятнах мазута, пол. Запах смазки. И станки, станки, станки — токарные, сверлильные, фрезерные и один строгальный. Словно бы мертвые во время пересменок и в перерывах на обед, они оживали — начинали жужжать, скрипеть, грохотать, как только включался рубильник или нажималась на пульте красная кнопка. Собачий холод. Сквозняки. Бегущая из-под резца стружка — синеватая, закрученная в тугие спиральки или рассыпчатая, похожая на крупу. На крупу походила чугунная стружка. И, наверное, поэтому мне нравилось обстругивать чугунные болванки — похожая на крупу стружка притупляла чувство голода. Теперь у меня постоянно сосало под ложечкой. Я вспоминал бабушкины довоенные обеды и жалел, что нельзя вернуть все то вкусное и сытное, от чего я воротил нос или просто ковырял вилкой.
В первые дни я так уставал, что подкашивались ноги. Возвратившись с работы, пил чай, чаще всего обыкновенный кипяток с крошкой растворенного в нем сахарина, съедал кусок хлеба, и все. Работал я в три смены. Трудней всего было ночью: днем спать не хотелось, а после полуночи то и дело приходилось тереть глаза, дергать себя за мочку уха или щипать бедро.
На нашем дворе работали все, кто мог. Даже Надежда Васильевна собиралась устроиться куда-нибудь. Маня продолжала учиться в школе: у Петровых были сбережения, они имели возможность жить на иждивенческие продуктовые карточки.
Конный двор превратился в гараж. Когда и как исчезли лошади, никто не видел. В один осенний день на Конный двор въехали полуторки и трехтонки с газогенераторными баллонами по бокам кабин и обосновались там — некоторые в конюшнях, некоторые под открытым небом, где еще долго-долго сиротливо стояли телеги с поникшими оглоблями. Вонь бензина и отработанного газа не могла перебить запах конского навоза.
На каменную ограду натянули колючую проволоку, поставили вышку, на которой так и не появился охранник, около ворот — они находились далеко от улицы — сколотили будку. В ней сидел то шустрый старичок с пустой кобурой на боку, то крикливая женщина в телогрейке, подпоясанной широким ремнем, то молчаливый инвалид на деревянной ноге. Анна Федоровна утверждала, что гараж — военный объект, но люди в военной форме на Конном дворе не показывались, все шоферы были в гражданской одежде, ночью эта территория охранялась, как и раньше, сторожем с берданкой.
Утром, идя на работу, я видел, как разъезжаются, расплевывая фиолетовый дымок, полуторки и трехтонки. Среди шоферов было много женщин и разбитных девушек. Женщины, вцепившись в рулевое колесо, сосредоточенно смотрели на дорогу, а девушки косились на меня, иногда подмигивали.
Что возили на грузовиках — этим никто не интересовался: излишнее любопытство вызывало настороженность, запросто могли и в милицию отвести. Постоянно возникали разговоры о шпионах и диверсантах. Анна Федоровна уверяла, что сама видела сигнальную ракету, пущенную во время бомбежки в сторону ажурной радиовышки, возвышавшейся неподалеку от нашего двора. Надежда Васильевна рассказывала, что на соседней улице поймали и тут же расстреляли диверсанта, на вид обычного человека. «Очень неважно одетого», — добавила она. Надежда Васильевна не могла толком объяснить, что натворил диверсант и как его схватили: сама она ничего не видела — только слышала.
Артель, где продолжал председательствовать Оглоблин, расширилась. Ей передали еще одно помещение — склад, в котором до войны хранился фураж. Теперь в артели было четыре цеха: в одном пилили чурки для газогенераторных баллонов, в другом сколачивали ящики для снарядов, в третьем что-то штамповали, а в четвертом шили сумки для противогазов и рукавицы. Четвертый цех Родион Трифонович считал самым важным, с гордостью говорил, что его работницы — иногда он называл их бабами — шьют на совесть — сумки и рукавицы вовек не порвутся.
— Зря Прохоровну не послушался и ко мне не поступил, — укорял он меня. — Я бы тебя своим главным помощником сделал. А то, понимаешь, до сих пор боязно, не читая, бумажки подписывать. Конечно, теперь все люди стараются по совести жить, но в семье, как говорится, не без урода. Мне поспокойнее было бы, если бы ты при мне находился.
Читать дальше
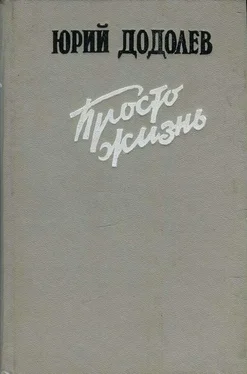




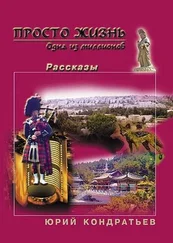



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


