Голова раскалывалась от дум, тревожно стучало сердце.
— Надо бы эвакуироваться, да нельзя.
— Почему нельзя? — Оглоблин усмехнулся. — С Курского вокзала поезда пока ходят.
— Бабушка болеет.
— Что с ней?
— Простыла.
Оглоблин поежился.
— Самая пакостная пора наступает. Ты печь протопи, чтобы комната прогрелась.
— Нечем. Последние дрова еще в апреле сожгли, а новые пока не получили.
Неделю назад я ходил на дровяной склад. Там горьковато пахло осиной, смолой, валялись полусгнившие кусочки коры. Дров не было. Сторож словоохотливо объяснил, что дрова обещали привезти еще в конце прошлого месяца, но все не везут. «Говорят, их теперь по талонам распределять будут», — предупредил он.
Обо всем этом я сообщил Оглоблину. Несколько минут он молчал. Потом хлопнул рукой по бревну, на котором мы сидели.
— Вот же дрова!
На эти бревна зарились все, кто твердо решил не эвакуироваться. Анна Федоровна, проявив инициативу, предложила распилить их и раздать жильцам. В тот же день во двор примчался домоуправ все с тем же портфельчиком под мышкой, собрал всех, кого можно было собрать, и объявил, что эти бревна — государственное имущество: тем, кто посягнет на них, придется отвечать по всей строгости военного времени. «В случае чего сразу же свисти!» — распорядился он, устремив испуганный взгляд на Анну Федоровну: она, как и все дворники, носила на фартуке милицейский свисток.
Родион Трифонович назвал домоуправа перестраховщиком, добавил, что такие люди, как этот человек, сами мозгами не шевелят — только указания выполняют, пообещал сходить в коммунальный отдел, когда обстановка прояснится, и все уладить.
Пока мы разговаривали, на дворе не появилось ни одной живой души. Ощущение растерянности, одиночества, страха не покидало меня. Я обрадовался, увидев на ступеньках подъезда Надежду Васильевну. Ей, видимо, хотелось что-то узнать. Потоптавшись, Надежда Васильевна удалилась. Вместо нее вышла Маня в накинутой на плечи шубке. Подойдя к нам, сказала, глядя на Оглоблина:
— Магазины не работают — даже хлеб выкупить нельзя.
Родион Трифонович кивнул. Маня продолжала смотреть на него. Оглоблин хмыкнул.
— Ну, чего ты уставилась на меня? Я же не господь бог и не ГКО [13] Государственный Комитет Обороны. Был создан 30 июня 1941 года, наделялся всей полнотой власти в СССР.
. Радио слушай: может быть, что-нибудь передадут.
Что было после, как мы провели этот день, память не сохранила. Помню только, что во второй половине дня бабушка после долгого молчания сказала:
— Остается одно — на бога надеяться.
Я очень удивился: бабушка была атеисткой, о боге никогда не говорила, на мои вопросы о Христе отвечала, что он — миф, выдумка, что к нему надо относиться как к литературному персонажу.
В ремонтно-механическом, когда я вошел в свой цех, было непривычно тихо. Рабочие слонялись в проходах между станками; сбившись в тесные группки, о чем-то вполголоса разговаривали. Чувствовалось: все взволнованы, напряжены. Начальник цеха собирался распустить нас, когда неожиданно дали электроэнергию.
4
Я могу назвать точную дату — 25 марта 1942 года. В этот день пришла похоронка на Парамона Парамоновича и сообщение о том, что Николай Иванович Сорокин пропал без вести.
Похоронки и сообщения о без вести пропавших приходили в наш двор и раньше, вызывая у матерей и жен или тихие слезы, или рыдания. Если какая-нибудь жительница нашего двора вдруг появлялась в черном платке, а дети понуро брели в школу, то и без расспросов можно было догадаться — пришла похоронка.
Черные платки на головах женщин стали такой же частью нашего двора, как две соединенные доской березки. Впрочем, доски уже не было — кто-то унес и сжег в печке. А вот бревна продолжали лежать, несмотря на хлопоты Оглоблина. В коммунальном отделе так ничего и не решили. Как нехотя объяснил Родион Трифонович, эти бревна числились на балансе строительной организации, расформированной в первые дни войны. Вся документация была передана управлению, в котором и слышать не хотели о каких-то бревнах, ссылались на военное время, на сложность и первостепенность поставленных перед управлением задач. Получился заколдованный круг: домоуправ требовал письменное распоряжение коммунального отдела, коммунальный отдел кивал на управление, а там говорили: «Закончится война, тогда и разберемся».
Дрова по талонам выдавались плохие, в ограниченном количестве. Зима была ранняя, морозная. Даже сейчас, в конце марта, подтаявший снег становился ночью твердым, как камень; днем с неба падали тяжелые, влажные хлопья. Дома на нашем дворе были ветхие — в трещинах, скособоченные. Я напихал под плинтуса и подоконники столько разного тряпья, что бабушка, вдруг удивившись, велела мне сбегать во двор и посмотреть — не вывалилось ли что-нибудь наружу. До войны с наступлением слякотных дней над нашими домами постоянно стелились или стояли столбом дымы, теперь же приходилось экономить дрова. Жильцы ломали и жгли в печах сараи.
Читать дальше
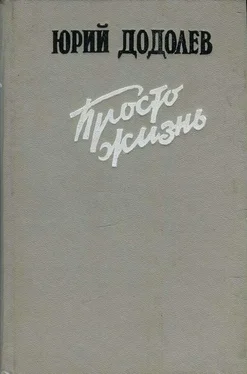




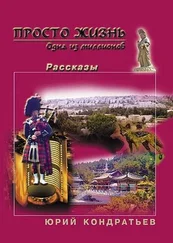



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


