Надежда Васильевна поддакивала, вздыхала, говорила, что получает в артели (она шила на дому какие-то мешочки) служебную продуктовую карточку, которая, как и иждивенческая, отоваривается хуже детской и рабочей.
Самые лучшие продукты выдавались детям. Колбасу, смальц, сахар можно было приобрести на талоны рабочих карточек. Надежде Васильевне часто приходилось ходить в комиссионные магазины или продавать вещи на рынке.
— На нашей сберкнижке есть деньги, — признавалась она. — Но позволяют брать всего двести рублей в месяц.
— Мало, — сочувствовала Анна Федоровна и добавляла: — А у нас сроду такой книжки не было, хотя Коля и хотел обзавестись. Он вроде своего отца выдумщиком был. Когда удавалось где-нибудь халтурку сшибить, говорил: «Сперва, Нюр, немного отложим, потом добавим. И так каждый месяц. Поднакопим деньжат, мебель купим и все остальное». Не получалось! Если я не поспевала к проходной, у него в карманах шиш оставался. Сам пил и угощать любил.
Занятые собой, Надежда Васильевна и Анна Федоровна не обращали внимания на меня и Маню. Склонившись над учебником или тетрадкой, мы сидели на отгороженной ширмой Маниной половине комнаты. Там был удобный письменный стол, диван, два стула и красивая этажерка с книгами на нижних полках и разными безделушками на верхних. Иногда наши головы соприкасались, и тогда я позабывал о теоремах и уравнениях. Но Маня, видимо, не чувствовала этого. Тыча пальчиком в тетрадь или учебник, с досадой говорила:
— Какой же ты бестолковый — просто с ума сойти можно! Это же совсем пустяковое уравнение.
Я краснел, потел и ничего не соображал.
Откровенность Анны Федоровны расшевелила Надежду Васильевну. Однажды, дожидаясь ушедшую в магазин Маню, я услышал исповедь этой женщины.
— В моей жизни все не так, как у тебя, было, — обращаясь к Анне Федоровне, начала она. — Папаша с мамашей (я у них единственная была) с детских лет меня к семейной жизни готовили. На фортепьяно учили играть. Это, к папашиной досаде, не далось мне. А стряпать и шить хорошо научилась. Вышивать люблю, вязать умею. После революции все молодые люди, которых папаша в женихи прочил, в разные стороны разлетелись. Кругом голод, разруха. Тогда и объявился в нашем доме Парамоша. Где и как познакомился с ним папаша, мне неизвестно. Стал приходить он к нам, и всегда с подарками: то брошку принесет, то колечко, то мешочек пшена или кулек сахара. Папаша его не очень-то жаловал — это я сама примечала, но терпел: мне в ту пору двадцать первый год шел, родители боялись, что я старой девой стану. Вскоре пожар случился — сгорел наш дом и все имущество. Папа умер от горя, мама слегла. Тогда Парамоша и сделал мне предложение. Я не раздумывала: на вид неказистый, но обеспеченный, не пьет, не курит. Деньги, правда, любил, однако мне ни в чем не отказывал. Четыре года деток у нас не было. Парамоша сильно тревожился — а я чувствовала — моей вины тут нет. Потом мальчик родился, всего месяц прожил. Парамоша сильно горевал. Когда Маня появилась, пылинки с нее сдувал, от кроватки не отходил. Я все думаю, в кого она пошла — в него или в меня. Отцовского в ней мало, а моего еще меньше.
— Моему Леньке она ндравится, — объявила Анна Федоровна.
Понизив голос до шепота, Надежда Васильевна что-то объяснила ей. (Я находился на Маниной половине.)
— Сами разберутся, — довольно громко пробормотала Анна Федоровна.
Я чувствовал: горит лицо. Сравнил себя с Ленькой и успокоился — почему-то решил, что я лучше его, что Маня обязательно предпочтет меня.
1
Начиная с весны 1942 года Оглоблин и Никольский стали бывать на нашем дворе все реже. Родион Трифонович — так он сам рассказывал мне — поставил в своем кабинете раскладушку: на месте было сподручней руководить производством, решать в любое время дня и ночи самые неотложные дела. Но мне казалось, что ему или действует на нервы постоянный стрекот швейной машинки в комнате Петровых — Надежда Васильевна страдала от бессонницы, работала по ночам, или его стесняет частое присутствие в их квартире Анны Федоровны. Даже теперь, во время войны, она во всеуслышание называла Оглоблина бесстыдником, демонстративно плевала в его сторону. Дома он ночевал раз в неделю — с воскресенья на понедельник.
Никольский появлялся на нашем дворе еще реже, как появляется солнышко в ненастные дни, часто уезжал в командировки, иногда очень длительные; возвращался то хмурым — даже поздороваться было страшновато, — то довольным. Валентин Гаврилович и до войны был замкнутым, ни с кем, кроме Родиона Трифоновича, не общался, теперь же стал таким молчуном, что ни у кого не возникало желания остановить его и побеседовать. Лишь Анна Федоровна осмелилась подойти к нему и спросить, как быть с долгом мужа. Валентин Гаврилович махнул рукой.
Читать дальше
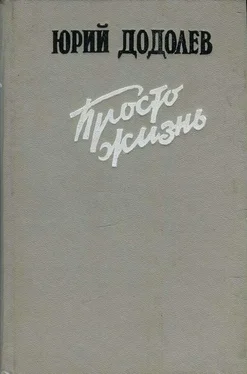




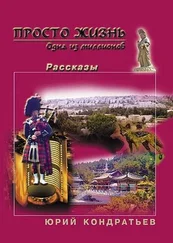



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


