Мы остановились около окна. Я прислонился мягким местом к подоконнику, Парамон Парамонович словно бы висел на костылях.
— Удивлены?
— Не то слово, не то слово, Парамон Парамонович!
Он помолчал.
— Никогда не думал, что встречу вас.
— Маня и Надежда Васильевна обрадуются, — сказал я и, увидев, как дрогнуло и сразу же сделалось бесстрастным его лицо, понял, что Парамон Парамонович не подавал о себе вестей неспроста.
Покосившись на меня, он лизнул кончиком языка сухие губы.
— В начале сорок второго года во время артналета снаряд большого калибра накрыл блиндаж, где кроме меня было еще шесть человек. Пульс щупать и ухом к груди прикладываться некогда было — рота в контратаку пошла. Начальство решило: все убиты — как-никак прямое попадание, на месте блиндажа развороченные бревна, оторванные ноги и руки. А я живым и невредимым остался — только контужен был, да и то слегка. Ногу я в другом бою потерял — полгода назад. В медсанбате, куда меня направили после контузии, я узнал — похоронка отправлена. Вот тогда я и решил не возвращаться в семью…
Парамон Парамонович пристально посмотрел на меня.
— Я, знаете ли, не очень-то счастливо жил. Надежда Васильевна, конечно, достойная женщина и еще хороша собой. Однако она с детства приучена только брать и ничего не давать. Раньше я думал: внешность жены, умение нарядно одеваться, приобретать нужные вещи, вкусно готовить, соблюдать чистоту — самое главное в семейной жизни. Потом вдруг понял: нет душевного расположения, теплоты — про любовь я уже не говорю. Надежда Васильевна всегда относилась ко мне как к источнику существования, а мне хотелось обыкновенной человеческой ласки.
— Но ведь кроме жены есть дочь! — жестко сказал я.
Парамон Парамонович вздохнул. Привалившись спиной к стене, вынул носовой платок, вытер пот.
— Дочь… Кстати, как она? По-прежнему учится в школе или уже бросила?
— Маня тоже на фронте, — сухо сообщил я. — В армейском госпитале работает, медсестрой.
Парамон Парамонович не удивился.
— Она с характером. Хорошо, что в санинструкторы не пошла. Армейский госпиталь не передовая и даже не медсанбат… Переписываетесь?
Неделю назад я получил от Надежды Васильевны письмо с Маниным адресом. Так и сказал.
Парамон Парамонович принужденно покашлял.
— Я не имею права требовать, но просьба у меня есть. Пожалуйста, не сообщайте ей обо мне. Очень прошу!
— Это жестоко, — пробормотал я.
— Нет! — возразил Парамон Парамонович. — Что отболело, то отболело.
— А если нет?
— Вы уверены в этом?
Я вдруг понял, что не могу ответить однозначно. Он покачался на костылях.
— Я и сам в тупике. Иногда мне казалось, что дочь — моя плоть и кровь, иногда я находил в ней черточки Надежды Васильевны, а еще чаще в Мане проявлялось что-то совершенно непонятное.
В этих словах были боль, горечь, недоумение. В сердце возникла жалость. Я пообещал Парамону Парамоновичу не сообщать о нем Мане. Поблагодарив меня, он с любопытством спросил:
— До сих пор неравнодушны к ней?
Я уклончиво ответил, что Маня всегда нравилась мне. Парамон Парамонович помолчал.
— Нравиться и любить — разные вещи. Любовь заставляет прощать, жертвовать собой. Сам я не испытал этого, но ощущаю: именно так и должно быть, если любят по-настоящему.
Тогда я просто запомнил эти слова, большого значения им не придал. И лишь спустя много-много лет, влюбившись до умопомрачения, понял, что Парамон Парамонович был прав. Как не похожа мальчишеская любовь на ту, которая приходит позже, когда можно оглянуться и сравнить то, что было, с тем, что есть. Однако детская и юношеская привязанность остается в памяти. Наверное, потому остается, что в жизни человека все повторяется. Все, кроме того, что было в детстве и юности.
Мимо нас проходили раненые — безрукие, на костылях, на скрипящих протезах: на втором этаже лежали те, у кого была ампутация. Как ветерок, проносились сестры в белых шапочках или марлевых косынках, и я подумал, что безногим, должно быть, неприятно видеть их стремительный бег. И раненые, и сестры кивали Парамону Парамоновичу, некоторые обменивались с ним рукопожатиями, спрашивали о самочувствии. Было ясно, что Мании отец в госпитале человек известный.
— Все, у кого имеются часы, чуть что — бегут ко мне, — объяснил Парамон Парамонович. — Я никому не отказываю. Отверточку достал, лупу. Одни вознаграждают словесно, от других кое-что перепадает. Квитанции я, правда, не выписываю, но и лишнего не беру. Люблю, понимаете, копаться в часах. Это у меня с детства. Хорошие часы редко приносят, потому что хорошие часы сами по себе не ломаются. Дрянь тащат — немецкую штамповку.
Читать дальше
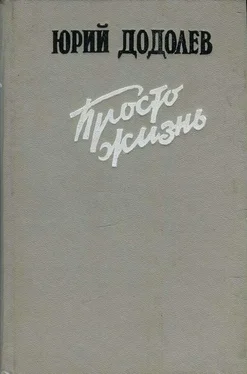




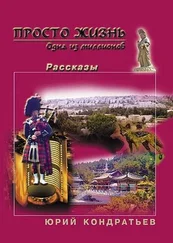



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


