Я вспомнил про свои часы, вынул их.
— У меня, наверное, такие же?
Парамон Парамонович кивнул.
— Сейчас поглядим, что с ними. — Повернувшись лицом к окну, он снял с часов крышку, подул на механизм, что-то потрогал кончиком перочинного ножа. — Завтра утром снова станут тикать. Но предупреждаю: ходить они долго не будут — шестеренки изношены.
Я спросил Парамона Парамоновича, когда его собираются выписать.
— Недельки через две, — ответил он. — Оформлю пенсию и — на работу. Если бы мне руку отрезали, то дело было бы швах, а ноги для часовщика необязательны.
— В Москву поедете или в этом городе останетесь?
— Еще не решил. Очень хочется свой саквояжик заполучить: в нем прекрасные инструменты швейцарского производства. Но как сделать это, пока не придумал.
Я сказал, что Надежда Васильевна могла продать эти инструменты. Парамон Парамонович разволновался:
— Неужели могла? В доме столько разного добра: золотые побрякушки, платиновые серьги, кольца с бриллиантами, отрезы и так далее. Я ни на что не претендую, хотя при разводе мог бы потребовать раздела имущества. И потребую, если она продаст инструменты!
— Значит, все-таки собираетесь повидаться с ней?
— Конечно. — Парамон Парамонович усмехнулся. — Надежда Васильевна, полагаю, одинокой долго не останется.
— У меня другое мнение.
— Не останется. Придет час, сами убедитесь в этом.
Я стал переубеждать Маниного отца, рассказал, что жена часто вспоминает его, ласково называет Парамошей, но он продолжал усмехаться.
Через две недели Парамон Парамонович выписался. На прощание он сказал мне, что временно поселится в этом городе, подкопит деньжат, потом вернется в Москву.
2
Мне удалось приехать в Москву раньше Маниного отца. В госпитале меня признали годным к строевой службе, дали отпуск на пять суток, и в сентябре 1944 года я снова очутился на нашем дворе. О своем приезде не сообщил: на телеграмму не было денег, а посылать письмо не имело смысла — в лучшем случае оно пришло бы в Москву в самом конце моего отпуска.
Сойдя с трамвая, я ринулся к воротам нашего двора, радуясь предстоящей встрече с бабушкой, а если посчастливится, то и с матерью. Кроме того, ужасно хотелось покрасоваться перед соседями в новом качестве — в качестве человека не только побывавшего на фронте, но и раненного в грудь. Огорчало лишь то, что никто, за исключением бабушки и, может быть, матери, не увидит шрам — наглядное подтверждение всего того, о чем я собирался рассказывать.
Через окно трамвая и на нашей улице я пожирал глазами все то, что было так дорого мне, о чем я постоянно вспоминал, иногда думал: «Доведется ли снова увидеть наш двор?»
Теперь его нет. Улица моего детства изменила свой облик: справа и слева возвышаются многоквартирные дома, одинаково безликие, неинтересные. До войны и в первые послевоенные годы на этой улице вперемежку с домами-развалюхами были купеческие особняки, крепкие и добротные, похожие на боровички среди сыроежек. По названиям расположенных поблизости улиц и переулков — Мытная, Житная, Сиротский, Выставочный — можно было определить, что находилось тут в стародавние времена, каким ремеслом добывали себе пропитание жители этих мест.
От прежнего Замоскворечья остались лишь «островки» — часть улицы или переулка, а еще чаще просто дом с лепными украшениями на фасаде, доживающий свой век среди «башен» и «коробок». Пощипывает в глазах, когда на пути возникает сохранившийся в памяти особнячок. Хочется остановить первого встречного и сообщить, что этот особнячок был точно таким же пятьдесят лет назад, что даже моя бабушка не помнила, в какие годы он появился в Замоскворечье. Становится больно, когда я вижу старинный дом, обнесенный деревянными щитами, с темными прорубями вместо окон, с тарахтящими около него экскаваторами и бульдозерами. Смотрю на обнажившуюся в проемах кирпичную кладку, шириной почти в метр, и представляю, как будут чертыхаться рабочие, сколько прольют пота, прежде чем разрушат такой дом.
На дворе не было ни души. На полуоткрытом окне комнаты Петровых слегка надувалась и сразу же опадала тюлевая штора. Надежда Васильевна меняла шторы два раза в год: в апреле вешала легкие, как паутинка, в октябре — более тяжелые. Ветер гонял сухие листья, прижимал их к каменному основанию нашего дома. Летнее убранство на деревьях поредело, в кронах преобладал желтый цвет. Земля была влажноватой, свинцово поблескивали лужицы: ночью, видимо, шел дождь. За год наш дом обветшал еще больше: парадная дверь висела на одной петле, жалобно поскрипывала от ветра, некоторые окна скособочились. На наших окнах были закрыты форточки. Я подумал, что бабушка, наверное, ушла в магазин, а может быть — это страшно огорчило меня — уехала к матери: в последних письмах она сообщала, что мать продолжает настаивать на переезде к ней. Разволновавшись, пулей взлетел на второй этаж, рванул на себя дверь и чуть не рассмеялся — бабушка раскладывала пасьянс. Стука двери она не услышала. «Совсем плохи дела», — с грустью подумал я. Прислонившись к дверному косяку, стал наблюдать. Бабушка, должно быть, почувствовала мой взгляд — подняла голову, охнула, быстрым движением руки смешала карты.
Читать дальше
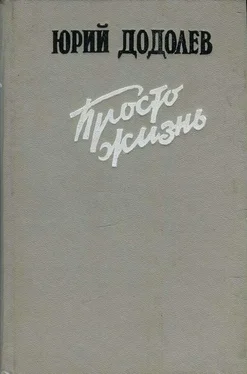




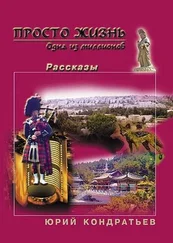



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


