Он меня не перебивал — лишь иногда шевелились брови и глаза обволакивал туман.
— Не осуждаю Парамона, — глухо сказал Оглоблин, когда я выложил все, — но и одобрить не могу. Она ему в жены не набивалась — сам посватался. Коль взвалил на себя ношу — неси. Я в эту квартиру в один день с ними вселился, вон сколько лет бок о бок прожили. Как на духу тебе скажу: хозяйка она — и позавидовать не грех. Все вымыто, вычищено, ни соринки, ни пылинки, и готовила хорошо. Зайдешь, бывало, на кухню — слюнки текут. Я себе яишенку с колбасой жарил да чаек кипятил, супчик редко-редко варил, а она не только возле окна сидела: или тесто месила, или мясо отбивала, или рыбу чистила, или капусту шинковала. Парамон любил сладко покушать, она, видать, тоже. А вот Маня к питанию полное равнодушие проявляла: намажет хлеб маслом и — сыта. Ее разными разносолами потчевали, а она нос воротила.
— Я до войны тоже привередливым был.
Родион Трифонович усмехнулся.
— Прохоровна жаловалась. Я советовал ей ремешком тебя похлестать, а она головой качала. Ты, наверное, единственный, кого в детстве не драли, — больше таких не встречал.
— Вам, должно быть, крепко доставалось от родителей?
Оглоблин помолчал.
— Я, брат ты мой, круглый сирота. Ни отца, ни матери, ни тетки, ни дяди. Подкидыш, одним словом, в приюте воспитывался. С двенадцати лет вкалывать стал. Лупили меня как Сидорову козу, и все кому не лень. Подзатыльники и шлепки не в счет.
Я вспомнил: бабушка говорила матери, что Оглоблина и Никольского роднит их одиночество, неудачно сложившаяся личная жизнь; спросил Родиона Трифоновича о жене.
— Не было! — бросил он.
— Почему не было?
Оглоблин побарабанил пальцем по столу. Я почувствовал: сейчас он откроет мне какую-то тайну.
— Даже Никольскому про это не рассказывал, — медленно, как бы с трудом начал Родион Трифонович, — а тебе, побарабанил по столу, обвел взглядом комнату. — В последнем для меня бою колчаковский снаряд не только моего любимого коня угробил, не только контузил, руку перебил и шрам на лице оставил, но осколок еще в одно место попал. С той поры и сделался я непригодным для семейной жизни.
Я вдруг с ужасом подумал, что угодившая в меня пуля могла попасть не в грудь, и от потрясения потерял дар речи. Родион Трифонович принялся утешать меня, хотя по логике вещей все должно было бы происходить наоборот.
— Такое редко случается, но случается, — сказал он напоследок и предложил выпить.
На моем ремне была фляжка с водкой. Во время семейного чаепития бабушка сообщила, что недавно на один талон продуктовой карточки неожиданно выдали пол-литра водки. Я сразу же попросил отлить немного мне. Мать сделала большие глаза. Спокойно достав бутылку, бабушка сказала ей: «Неужели ты думаешь, что там он не пил это?» Слово «там» бабушка произнесла уважительно, а «это» подчеркнуто сухо.
Я снял с ремня фляжку.
— Убери! — потребовал Родион Трифонович. — Сегодня я угощаю. — Открыв тумбочку, он вынул непочатую бутылку водки. — Закусь тоже найдется.
— Богато живете! — воскликнул я.
— Сапоги помнишь?
— Какие сапоги?
— Которые я перед самой войной купил. Так и не разносил их. Но пригодились: на продукты выменял. А это, — Оглоблин водрузил бутылку на середину стола, — по карточке выдали.
— Знаю.
Соорудив незатейливую закуску, Родион Трифонович разлил водку. Мы чокнулись. По телу расплылось тепло, помутнело в голове, поднялось настроение. Оглоблин расспрашивал про фронт, больше всего его интересовали «катюши». Узнав, что я не видел их в действии, он огорчился.
— Говорят, самым сознательным и дисциплинированным бойцам и командирам их доверяют.
Я подтвердил — об этом рассказывали в госпитале.
— И еще говорят, — добавил Родион Трифонович, — ничего особенного в их конструкции нет: обыкновенные рельсы на грузовиках. Вся хитрость в снарядах. Немцы до сих пор не разгадали их секрет.
В госпитале я слышал то же самое.
Оглянувшись на дверь, Оглоблин доверительно прошептал:
— Сдается мне, наш Валентин Гаврилович к этим самым «катюшам» касательство имеет.
— Вполне возможно… Кстати, как он живет?
— Не жалуется. Навестить сегодня обещал, да что-то не идет.
Никольский оказался легок на помине. Меня он не узнал. А когда узнал, то — так показалось мне — особой радости не выразил. Родион Трифонович хотел вскипятить чай, но Валентин Гаврилович сказал, что тоже выпьет граммов сто пятьдесят.
— Смотри, — предупредил Оглоблин и показал взглядом на его живот.
Читать дальше
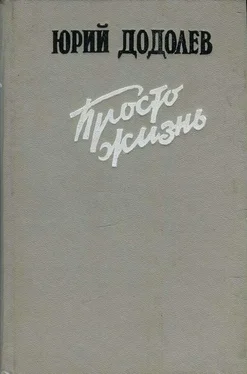




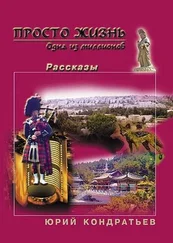



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


