Незаметней всех уходил Парамон Парамонович. Я увидел его в тот момент, когда он, держа в одной руке чемодан, а в другой матерчатую сумку с провизией, направился, глядя прямо перед собой, на сборный пункт, находившийся на соседней улице в той самой школе, где я и Маня учились в параллельных классах. Вначале я решил, что Парамон Парамонович, должно быть, уезжает в командировку, но сразу же вспомнил, что, в отличие от моей матери и Никольского, он никогда не ездил по служебным делам в другие города.
На дворе никого не было, и Парамон Парамонович, маленький, щуплый, чуть сгорбленный, показался мне таким беззащитным, что сжалось сердце. Нагнав его, я пожелал ему счастливого пути и скорого возвращения. Опустив чемодан и прислонив к нему сумку, Манин отец с неожиданной сердечностью поблагодарил меня. Его рука оказалась холодной, мягкой, но пожатие было ощутимым. Осмелев, я предложил Парамону Парамоновичу проводить его, хотел взять чемодан.
— Не утруждайте себя, — поспешно сказал он и туманно пояснил: — Это ничего не изменит.
Очень хотелось узнать, почему его не провожают самые близкие ему люди — жена и дочь. Спросить об этом я не осмелился.
И в тот день, и позже я вспоминал слова «это ничего не изменит», но расшифровать их так и не смог. Несколько раз собирался обратиться за помощью к Мане, но отказывался от этой мысли, почему-то думал: «Она или расстроится, или тоже начнет ломать себе голову».
Таким — маленьким, щуплым, чуть сгорбленным, беззащитным — и оставался Парамон Парамонович в моей памяти до тех пор, пока я снова не встретился с ним. Произошло это через два с половиной года в другом городе.
Никольского в первые дни войны я не видел. Родион Трифонович, встречая меня во дворе, виновато помаргивал.
— Заманиваем. Потом, сам увидишь, так шарахнем, что… — Он делал энергичный жест.
Уже был оставлен Шяуляй, шли ожесточенные бои на всех направлениях, сводки, расплывчатые, неопределенные, не оставляли никаких надежд, но мне хотелось верить Оглоблину, и я говорил всем — бабушке, матери, Леньке, Надежде Васильевне, Мане, — что в самое ближайшее время фашисты будут разгромлены. Бабушка и мать не воспринимали мои слова всерьез, Надежда Васильевна отводила глаза, Маня ничего не говорила, и лишь Ленька неуверенно поддакивал мне. Ему досрочно присвоили разряд, он оформлялся на работу.
Через несколько дней мать сказала, что можно эвакуироваться в тыл. Бабушка так разволновалась, что даже щеки порозовели.
— Здесь вся моя родня похоронена! — заявила она. — Отсюда я — никуда!
Вопрос об эвакуации отпал.
В тот же день, вечером, пришел Оглоблин. Наспех поздоровавшись, сказал бабушке:
— Знаешь, Прохоровна, что Валентин Гаврилович отчудил?
— Что?
— Тоже в ополчение записался.
— Значит, так надо.
— Надо, надо! — воскликнул Родион Трифонович. — А тут кто мозгами шевелить и вкалывать будет? Я? У меня для этого башка не приспособлена и рука всего одна.
Отсутствовал Никольский две недели. Вернулся он на «эмке». Его не только привезли, но и помогли внести в дом вещмешок. Был он в многократно стиранном красноармейском обмундировании, в нелепо нахлобученной на остриженную голову пилотке, в тяжелых башмаках с обмотками. Во двор тотчас высыпали люди, начали оживленно обсуждать это событие. Надежда Васильевна неуверенно сказала, что, должно быть, кончилась или вот-вот кончится война. Анна Федоровна фыркнула:
— Отвертелся!
— Отвертелся? — переспросила Надежда Васильевна.
— Только так, — подтвердила Анна Федоровна. — Словчил и отвертелся!
Такое объяснение очень понравилось Надежде Васильевне. Она стала всех уверять, что Валентин Гаврилович большой хитрец: словчил и отвертелся. По простоте душевной, а скорее по глупости, то же самое она сказала и возвратившемуся с работы Оглоблину. Обозвав Манину мать дурой, он, хлопнув дверью, помчался к Никольскому. Надежда Васильевна застыла с неочищенной морковкой в руке. В такой позе я и увидел ее, когда вошел: хотел поболтать с Маней. Ее дома не было. Надежда Васильевна стала жаловаться на Родиона Трифоновича.
— Пока Парамоша дома был, этот человек (так она назвала Оглоблина) никогда не выражался, — добавила Манина мать.
Теперь Надежда Васильевна называла мужа только Парамошей, часто вспоминала, каким добрым, внимательным и храбрым был он. Я не сомневался в доброте и внимательности Парамона Парамоновича, а вот храбрым при всем желании назвать его не мог: он откровенно побаивался и Оглоблина, и Ленькиного отца, никогда не разнимал дерущихся. Муж Надежды Васильевны был тише воды ниже травы, но она уже создала свой собственный образ и, видимо, утешалась этим. Может быть, ей всегда хотелось видеть Парамона Парамоновича не только добрым и внимательным, но и храбрым, и теперь, когда он ушел воевать, она поверила, что он и был таким.
Читать дальше
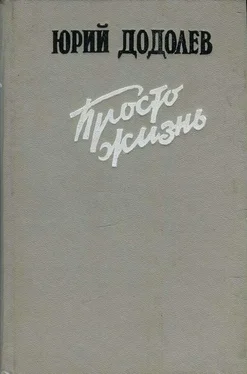




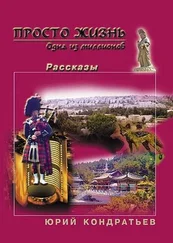



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


