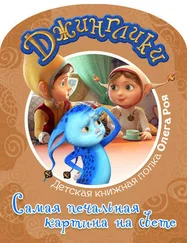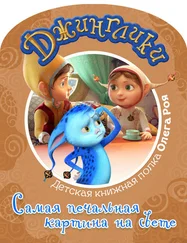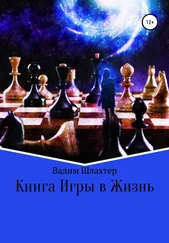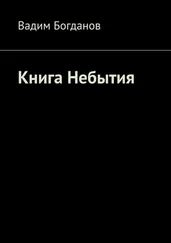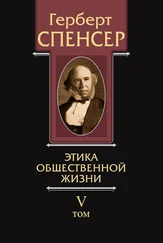С другой стороны, что-то подсказывает, что просветление (понимание) меньше всего можно назвать философией. Понимать – значит быть. А быть (это уже от себя добавим) – это то, что происходит (случается!) с каждым из нас, хотим мы того или не хотим. Быть – означает проживать (ся) от мгновения к мгновению, свидетельствуя всю палитру воспринимаемого как внутри, так и вне себя.
Полагаем, что возможно движение в одном направлении: от понимания к бытию. А это значит, что далеко не всякий (далеко не всякий!) «бытийствующий» индивидуум понимает. Нельзя сказать «быть – значит понимать». Но что значит «быть»?! Скажем просто: от себя нельзя убежать. Как бы мы ни умствовали, как бы ни извивались ужом, что бы мы ни изобретали – мы всегда, каждую минуту, каждую секунду остаёмся с тем, что есть. Но оно есть через нас, в нас и благодаря нашему сознанию.
Проблемы возникают, когда «мы» должны что-то делать, прилагать хоть какие-то усилия для достижения чего-то. Но разве есть проблема в предложенной выше концепции отсутствия свободы выбора? Всё, от малого до великого, просто делается…
Да, жизнь течёт, несёт нас как щепки, не обращая никакого внимания на наши эмоциональные бури и мысленные эксперименты. Хотя, рассуждая последовательно, эти эмоциональные бури и мысленные эксперименты, эти метания от одного состояния к другому, от одного набора идей к другому – тоже неотъемлемая составляющая жизненного потока. Может быть, такого рода метания и разочарования нужны для того, чтобы показать нам нашу абсолютную беспомощность? Пока остаётся хотя бы маленький, самый крохотный фрагмент «я», которое что-то может – жизнь будет продолжать эту игру, подбрасывая нас как мячик. Всё это происходит на ментальном уровне – вся эта жуткая драма, в которой присутствует «я», противостоящее жизни. Корень проблем в «я» – когда его не станет, когда оно окончательно потерпит поражение (это-то как раз и будет то самое понимание), всё изменится. На каком-то глубинном ментальном уровне изменится. Помните китайскую историю про то, как мудрец объяснял этапы своего просветления? До просветления он видел горы как горы и реки как реки. Потом он перестал видеть горы как горы, и реки как реки. И, в конце пути, он снова стал видеть горы как горы, и реки как реки. Что же произошло? Думается, он перестал ощущать себя деятелем и постиг, что «его» жизнь просто проживается. Всё, абсолютно всё осталось как прежде: проблемы никуда не ушли, радости чередовались с горестями, он так же испытывал голод, холод, боль, удовольствие… И в то же время всё изменилось кардинально: произошел тончайший сдвиг в его восприятии реальности – не было больше «его», пытающегося вытащить себя за косичку из болота (то, чем все мы занимаемся с утра до ночи), – «события совершались, дела делались, переживания переживались», но исчез псевдосубъект, а это дорогого стоит! Здесь можно сказать: а не игра ли это слов? Какая разница – воспринимаю я себя действующим и ответственным субъектом или верю, что «жизнь просто случается»? Ведь когда приходит время страдать, я всё равно страдаю! Когда мне больно – мне больно вне зависимости от того, как я воспринимаю реальность. Всё же, полагаем, разница есть: принятие концепции недеяния колоссально облегчает жизнь. Когда в нас присутствует эта ясность, всё становится гораздо проще и, вместе с этим, легче – события случаются, дела делаются (или не делаются), но нет никого, кто бы их совершал или (не) делал. А когда мы начинаем верить в «себя», проблемам нет конца. Возможно, это просто психологическая установка – кто из нас знает, что такое «реальность» и какова она на самом деле?
Едва ли не единственная ценность, которую можно усмотреть в жизни это трагизм, как её эстетическая составляющая. Обратите внимание, насколько трагизм притягателен, особенно для поживших людей. Молодёжь этого, как правило, не понимает. Но иногда трагизм жизни затягивает в свою черную дыру и совсем маленьких детей. Например, когда они заболевают онкологией. У них очень быстро становятся умными глаза.
«Попытка понять Вселенную – одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии, – считает американский ученый Стивен Вайнберг. – При этом, чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной».
Трагизм завораживает, подобно взгляду змеи. И при этом он доставляет какое-то мрачное удовлетворение. В отличие от комедии, трагизм невозможно более или менее успешно имитировать. Бездарная подделка под трагизм мгновенно кричит о себе, и трагическое неизбежно превращается в свою противоположность, то есть, в фарс. Трагизм – это ведь не что-то такое, что придумал некто. Вся жизнь человеческая предоставляет столько материала для размышлений в трагическом ключе, что удивительно, как некоторые люди ухитряются «не замечать» трагизма существования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
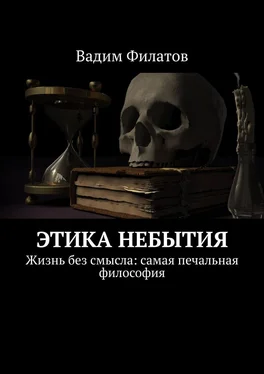
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)