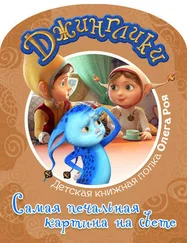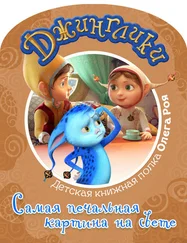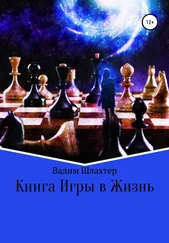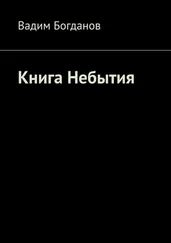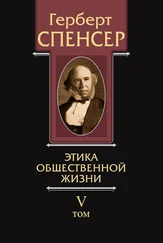– Я согласен, доктор, на любые вмешательства, лечение и процедуры! Только помогите!
– Вы знаете, я сам этот вопрос не решаю. Я доложу о вашем случае своему начальству, и, если он будет признан заслуживающим внимания, мы применим мою методику. Тогда сегодня не позднее двадцати часов тридцати восьми минут боли у вас пройдут, показатели стабилизируются. Вы будете окружены вниманием и любовью.
Консультант ушел. Больной остался ждать, посматривая на часы.
Наш старый и самый надежный консультант С., он же Сет, Тиамат, Миктлансиуталь, Танатос никогда не подводит! Ровно в 20 часов 38 минут у больного прошли все боли, он стал покоен и невозмутим.
Все три последующих дня он был окружен толпой любящих родных и близких. Так же было и на девятый, сороковой день и ровно через год. Многие больные узнали о нем из газет и взгрустнули.
Если я заболею, пригласите ко мне консультанта С.!» [31]
Субъективно (да!), на уровне ощущений, мы не знаем ни рождения, ни смерти. Их не было для нас и не будет никогда. Вот почему мы ощущаем себя – вопреки всякому пониманию – вечными. Но это не длящаяся бесконечность, а точка настоящего: когда бы мы ни остановились и ни попытались помыслить о себе, мы всегда здесь и сейчас, всегда в этот момент. Вы понимаете, что речь в данном случае идёт и о небытии? Небытие до рождения и небытие после смерти никак не могут для нас быть, их, попросту говоря, нет с точки зрения субъективного восприятия. А что же есть? Есть настоящее, в котором, как в фокусе, сходятся фрагментарные, но структурно упорядоченные, воспоминания о прошлом и мысли о будущем. Короче говоря, мы не рождались и не умрём, мы есть всегда… Субъективно, конечно же. Что из этого следует в отношении философии небытия? Только то, что ей действительно мало что есть сказать о бытии. Поэтому не написано объёмных томов по философии небытия. А если двинуться дальше, то можно сказать, что небытие не может быть для нас опытным переживанием. Только косвенно, опосредованно – в виде отсутствия чего-то или кого-то. Скажем, смерть значимых для нас людей ощущается нами как горькая утрата – в этот момент мы остро чувствуем дыхание небытия. Но мы-то продолжаем существовать и печалиться по поводу ушедшего человека. Небытие рядом, оно незримо присутствует в каждое мгновение, оно поистине вездесуще, но оно не может стать для нас положительным опытом, чем-то осязаемым и воспринимаемым. Однако оно может быть осознано нами и осмыслено, что само по себе уже ценно. К сожалению (?), философия небытия не в состоянии стать для нас религией: небытию невозможно поклоняться и нельзя выжать из него что-либо… кроме небытия. Которое непостижимо.
Смерть смертью, но покуда не пришел консультант С., мы обречены пребывать в бытии. Хотя даже если просто признать, что всё вокруг нас и в нас есть бытие, значит поверить в бытие и погрузиться в повседневность. Тогда все размышления о небытии становятся ненужной забавой, игрой ума. Небытие, пустота, ничто превращаются в абстрактные идеи, не имеющие, в общем-то, никакого отношения к нашей каждодневной вовлеченности в абсурдную игру жизни. А если мы говорим, что всё есть измененная пустота – это значит, что мы не верим в существование и за всеми его иллюзорными проявлениями видим ничто. Даже если мы забываемся, у нас всегда есть спасительная возможность вернуться к ясному видению. Философия небытия в изложении А. Н. Чанышева или Н. М. Солодухо хоть и утверждает первичность и абсолютность небытия, всё-таки оставляет для бытия спасительное место. Нет прорыва дальше, мысль словно останавливается у невидимой преграды, не решаясь сделать последний шаг – нет бытия, есть небытие. А этот шаг меняет всё.
Когда мы утверждаем, что ничего нет, необходимо в первую очередь утвердиться в мысли, что нет нас самих как познающего субъекта, а, во-вторых, нет и объекта познания. Первое сложнее всего. Как говорит Нагарджуна: «Понятие „я“, которое в силу заблуждения означает привязанность к существованию свидетельствует о ложном самомнении по типу „я есть“…» Само понятие «небытие» во многом двусмысленно, поскольку по форме оно означает отрицание бытия и, значит, вторично по отношению к бытию. Но отрицать в данном случае некому и нечего. «Я ничего не отрицаю, потому что нет ничего, подлежащего отрицанию. Никаких вещей нет, а, следовательно, нет постижения», – поясняет Нагарджуна. [23, с. 66] Когда мы принимаем на вооружение термин «пустота», возникают другие проблемы. Во-первых, устойчивые ассоциации с физическим вакуумом, который, как выясняется, на самом деле не пуст. Физика работает с вакуумом, логика с отсутствием, онтология с небытием. А так ли пуста философская пустота у индусов, или они хотели с её помощью лишь подчеркнуть условный характер наличного мира? В большинстве случаев, например, у Чандракирти, скорее второе. Но реальна ли сама пустота? Можем ли мы сказать, что небытие есть? Для Нагарджуны такой вопрос это всего лишь игра словами. Во-вторых, понятие пустоты, по крайней мере, в русской культуре, несет в себе устойчивый отрицательный смысл. «Пустые слова», «пустой человек»… В то же время индусы считают, что, чем более пусто высказывание, тем сильнее оно утверждает нас в пустотности. Не зная санскрита и опираясь лишь на переводы, сложно уловить эти мысли. Они растворяются в пустоте. Вообще в учении о пустоте (мадхьямике) наиболее полно проявилась способность индийского ума схватывать абсолютные идеи при их минимальной индивидуализации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
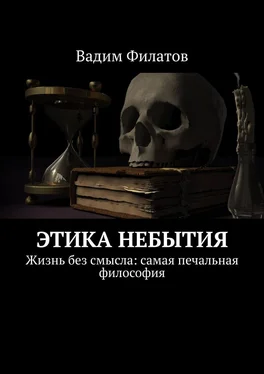
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)