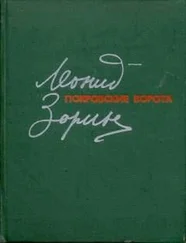Иван Мартынович сопоставлял их дневники, записки, письма, делал выдержки из свидетельств очевидцев, во всем этом ощущался глубоко личный, почти болезненный интерес.
Среди множества разрозненных листков мне бросился в глаза один. Там было всего несколько слов.
«Но Лунин?» – прочел я. Дальше еще несколько строк: «Человек действия стал человеком слова. Слово было единственно возможным действием».
И потом мне вновь попался листок, и там вновь было написано: «Лунин. Лунин». И чуть ниже – лунинские слова: «Язык до Киева доведет, перо – до Шлиссельбурга». Личность Лунина явно не давала Ивану Мартыновичу покоя, похоже было, что в Лунине он не мог чего-то разгадать, иначе как понять эти вопросительные знаки, эту странную фразу: «Но Лунин?»
И еще одна папка, связанная с этой эпохой, попалась мне на глаза. Она была озаглавлена весьма хлестко – «Благополучная оппозиция». Главными ее героями были Сперанский, Мордвинов, несколько страниц имели прямое отношение к Ермолову.
Особенно тщательно готовил Иван Мартынович материалы, в которых так или иначе поминалось участие Сперанского в Следственном комитете, чинившем расправу над заговорщиками.
Мне казалось, что Иван Мартынович с тайным удовлетворением исследовал ту моральную западню, которую Николай расставил перед старым политиком, дорожившим своей репутацией широко мыслящего человека. Можно себе представить, каким жалким был он прежде всего в своих глазах, участвуя в судилище.
Точно так же анализировал Иван Мартынович Мордвинова, в конце концов примкнувшего к новому царю. Я понял, что Иван Мартынович испытывал какой-то особый интерес к людям, чей ум взлетел достаточно высоко, чтоб запретить им пресмыкаться перед деспотией, но оставался достаточно земным, чтоб не позволить с нею бороться.
«Странный выбор», – подумал я.
Несколько папок было связано с нашим благословенным солнечным краем.
Тут Иван Мартынович делал прыжок через несколько десятилетий, приближаясь, таким образом, к fin de siecie.
Но и здесь я находил некие сходные мотивы. В наших местах после отбытия каторги и ссылки проживало много ссыльных революционеров. Некоторые из них, переженившись и обзаведясь своим жильем, включились в повседневную жизнь, принимали участие в переписи, в разнообразных благотворительных предприятиях, одним словом, становились общественными людьми. Видимо, это была потребность неуспокоенных темпераментов, неспособных, однако, к новым испытаниям. Неуспокоенных, но укрощенных, сказал бы мой друг Бурский. Другие, что называется, уходили в себя – вели жизнь замкнутую и сумрачную. Их можно было с равным основанием представить как личностей суровых и непримиренных и как людей с переломанным позвоночником. От них мало что осталось, и здесь был простор для домысливания. Последнее зависело от позиции, от взгляда и настроения.
Ивана Мартыновича очень интересовали инсургенты, перебравшиеся сюда из Сибири, куда они были сосланы после 1863 года. Их было всего несколько человек, они жили поначалу весьма сплоченной общиной, которая, однако же, вскоре распалась. Один из них, Казимеж Любаньский, впоследствии даже женился на дочери видного чиновника. Его друг, Бронислав Кениг, в прошлом студент Московского университета и даровитый поэт, напротив, отличался чрезвычайной гордостью и независимостью, почему и прекратил всякие отношения с преуспевшим товарищем. Он был близким сподвижником Юзефа Понсета, казначея томской организации, неукротимого бунтаря. От Кенига осталось всего несколько стихотворений, переведенных самим Иваном Мартыновичем, который, надо сказать, был не слишком талантливым стихотворцем. Умер Кениг в бедности, от туберкулеза. В папке лежала его фотография – высокий лоб, зачесанные назад волосы, тонкое и нервное лицо, которое поистине украшали большие, невыразимо печальные глаза. «Это глаза все понявшего человека», – написал о них Иван Мартынович. Этих слов о «все понявшем» я не понял. Видимо, я сильно отличался от Кенига. Это обстоятельство нисколько меня не обижало, и все-таки мне хотелось бы понять, что понял покойный поэт и что понял о нем сам Иван Мартынович. Однако больше я не нашел ни строки. И была еще одна папочка, очень тощенькая, и в ней всего несколько листков. Возможно, это была моя догадка, но мне показалось, что то были подступы к некоторой классификации исторических отрезков.
Насколько я мог понять, Иван Мартынович устанавливал синхронное существование разнородных эпох, заряженных сменяющими друг друга периодами, идентичными в каждой эпохе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу