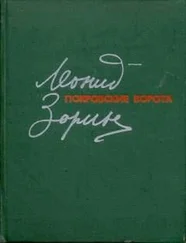Попутчикам тоже не было до меня никакого дела, у всех свои заботы, свои намерения, и даже мне было ясно, что смешно навязывать им свое глупо-торжественное настроение. Так они и остались в неведении, что рядом с ними ехал на завоевание столицы дерзкий сын юга.
Да и как было откровенничать с этими людьми, неспособными подняться над прозой жизни. Командированные говорили о своих начальниках, старуха ехала в гости к дочери, и, видимо, волновалась, хорошо ли ее примет зять, судя по отдельным словечкам, она не питала к нему жарких чувств. Господи, думал я, и эти люди едут в Москву!
В соседнем купе ехал человек, обитавший на Полянке. Он возвращался домой, Москва была его домом. Он имел там комнату, в которой был хозяином, площадь, на которой он был прописан, прекрасную, волшебную площадь. Ее следовало бы назвать площадью Счастья, площадью моей Мечты. И этот богочеловек, этот москвич, этот избранник был скучен, как диетический рацион. Он не понимал ни моего обостренного интереса к жизни великого города, ни моей горячности. Москву он носил, как будничное платье. Я спросил об одной нашумевшей постановке – он и не слышал о ней.
Между тем для меня в этой поездке все было полно глубочайшего смысла. И, видимо, поэтому так отчетливо запомнилось все, что ей сопутствовало: и толстый проводник, и пластинки, которые крутил поездной радиоузел, и медленные прогулки на перронах. Сколько станций пролетело мимо и сколько сочувствия рождали во мне люди, остававшиеся на их старых платформах! Особенно запала в мою голову одна чета.
Было это в Донбассе. Начинался великолепный закат. Круглое, отполированное солнце величественно, с необыкновенным достоинством вплывало в землю. Поезд только-только отвалил от махонькой станции и медленно запыхтел, словно нехотя продолжая путь. Коричневая, почти лишенная растительности почва, вся в бурых трещинах, бежала за вагонами. Тут-то я и увидел этих людей. Высокий, худой, белоголовый старик, весь в черном, несмотря на жаркий день, и рядом маленькая, почти игрушечная старушка, накрытая черной шалью. Они стояли у переезда и, помню, поразили меня, почти неспособного тогда замечать что-либо, кроме собственной особы, той напряженностью, смешанной с непонятной мне болью, с какой вглядывались в мелькавшие мимо них вагоны. И смутная тревога кольнула меня, неприятная, странная, раздражавшая прежде всего своей непонятностью. Не то предчувствие, не то прозрение, не то напоминание. Поезд повернул, я увидел паровоз и первые вагоны, впереди вилась дорога, длинная, как жизнь, которая меня ожидала. Через два часа я уже снова был тем веселым молодым бревном, каким вошел в свое купе. Однако, как выяснилось впоследствии, я не забыл тех стариков.
Я точно знал час и минуту, когда мы прибываем в Москву, и все же она явилась внезапно. Уже летели электрички, в которых навстречу нам ехали москвичи, жившие на дачах или в пригородных районах, уже было понятно, что столица рядом, и все же покамест как будто бы ничто не говорило о ее близости. Тот же темный вечерний лес, тот же темный простор, то же темное небо. Я ждал, ждал нетерпеливо, когда же наконец мелькнет эта почти мистическая грань, за которой возникает желанная планета. И ожидание было вознаграждено.
Сколько раз после того вечера я возвращался в Москву и сам удивлялся, что в душе моей неизменно рождалось пусть слабое, робкое, но все же подобие того волнения, той странной лихорадки, что трясла меня тогда. И сильна же она оказалась, если по сей день я не вполне от нее излечился.
Сначала вся эта темная, сырая, пахнущая влажной землей и влажной листвой тьма начала неуловимо меняться. Тот же простор, тот же забубённый ветер, и вместе с тем что-то вдруг изменилось. Я не сразу понял, что стало светлей.
Это далекое, пробившееся, словно с другой звезды, свечение какое-то время не изменялось – не слабело, но и не становилось ярче. Оно было предвестием, не больше того. Но уже было ясно, что всевластие природы – леса, ветра, полей, маленьких, едва угадываемых в душистой мгле озер, – всевластие это на исходе. И все же я вздрогнул, когда вдруг, точно рожденное взмахом одного рубильника, в мои воспарившие глаза хлынуло золотое электрическое зарево.
И тогда железнодорожные пути стали размножаться с фантастической быстротой, и мимо проносились вагоны, вагоны, вагоны. Вагоны-ветераны, вагоны на отдыхе, зашедшие в тупик.
Проносились здания – невысокие, длинные, с множеством окон или вовсе без них, какие-то пристанционные коробки неизвестного назначения, где-то уже видны были огоньки трамваев и автобусов, потом справа и слева обозначились освещенные вечерние дома, и мы влетели, въехали, вкатились в Москву и остановились у гулкого мокрого перрона – только что прошел дождь и вокзальные молочные фонари мерцали в лужицах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу