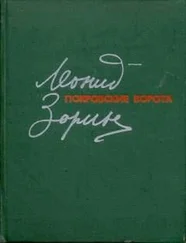Однако теперь, когда я стал постарше, я склонен критически отнестись к своему критицизму. Теперь-то я понимаю, что отец был умен своим умом, и этот ум своеобразный и ни на что не похожий, не мешал ему быть наивным и подчас нелепым. Отныне мне это так же понятно, как и долго мучившая меня загадка о душевной жизни отца. Он любил шутку, любил мистификации, смеялся долго и с аппетитом, но глаза его постоянно меня смущали. Устойчивая грусть была в этих глазах, и, когда я засматривался в них в те часы, что мы были вместе, я испытывал смутное чувство вины перед отцом. Прошли годы, и я знаю, что никто так не подвержен приступам веселья, порою даже беспричинного, как меланхолики. Когда я ловлю отсутствующий Сережин взгляд, я всегда вспоминаю глаза отца, хотя внук мало похож на деда. И то же чувство вины, на сей раз перед сыном, возникает в моей душе.
Думаю, что в каждом человеке есть нечто главное. Главным в отце была его нравственная сила. Именно она диктовала ему суждения, которым он не стремился придавать оригинальность, если последняя шла вразрез с его убеждениями. Она, эта сила, побуждала его совершать те или иные действия, которые окружающим казались странными и опрометчивыми, но которые, как мне теперь ясно, не могли быть иными. И доброта его была той органической добротой, которой чужды расчеты и ожидание взаимных амнистий. Иначе говоря, будучи фантастически добрым человеком, он не ждал ничего взамен. Все дело было в том, что он жалел людей. В наш железный век слово «жалость» стало бранным словом, его стыдятся употреблять точно так же, как стыдятся обнаруживать само это чувство. В нем усматривают нечто сладенькое и жидкое, нечто утешительно-поповское, показное и фарисейское. Но я мало знал людей более естественных, чем отец. Он настолько не стеснялся своих слабостей, что они становились его силой. Видимо, естественность и делала этого тонкокожего человека таким твердым в своей основе. Казалось, ему нечего скрывать. Он жалел людей, жалел жену, детей, сослуживцев. Он видел, что жизнь драматична и наряду со всеми ее радостями в ней достаточно бед и утрат, способных исполосовать человека, и он был бережен и заботлив, точно весь мир был огромным детским садом.
Среди многих формул, обрушившихся на меня в те далекие годы, была и та, что «без ненависти нет любви». Подозреваю, что отец не умел ненавидеть. То есть, разумеется, он негодовал, встречаясь со злом, и, безусловно, Гитлер был для него исчадием ада, но ведь Гитлера он никогда не видел, и Гитлер был для него скорее символом, чем человеком. И, пройдя две войны, он не научился ненависти к конкретным лицам. Мерзавцы вызывали в нем скорее досаду и недоумение, чем ожесточение, и в моей юности это его восприятие мира сильно меня раздражало. Однако тут уж нечего было делать, он был таким и другим быть не мог. Когда в наших спорах я, как мне казалось, прижимал его к стенке, он только улыбался. Ему вообще трудно было со мной спорить. Дело в том, что при всей его мягкости он не был любвеобильным человеком и именно я был его страстью, его выбором, его судьбой. Он любил меня исступленно, любил до слепоты, до умопомрачения. Все его надежды были связаны со мной, с той порой, когда он сможет быть свидетелем моего счастья. Однажды, краснея от смущения, он признался мне, что по ночам ему снятся ослепительные сны – картины моего неслыханного успеха и цветения, в которых, как я понял, я занят тем, что принимаю благодарность осчастливленного мною человечества. Тогда мне трудно было понять такое полное растворение одной личности в другой, и только появление Сережки все открыло. Сегодня мне ясно, что общение со мной было главной, если не единственной, радостью отца. Весь день он предвкушал эти послеобеденные часы и, как гурман, наслаждался ими, когда они наконец наступали. И дело было, разумеется, не в том, что я так уж его обогащал. В этом смысле мое общество даже теперь не столь интересно, а в ту пору я был совсем дурачок. Отцу, видимо, был важен и дорог самый процесс наших бесед: вот он, миг вожделенный, – его плоть, его сын сидит рядом, уже не бессмысленный комок, не пухлый карапуз, а друг, собеседник, единомышленник.
Но я был вечно занят, меня ждали либо приятели, либо подружки, и мне не всегда удавалось найти время для этих длинных разговоров. Отец никогда не показывал мне ни своего разочарования, ни тем более недовольства, а сам я был слишком глуп и тороплив, чтобы это увидеть или почувствовать. Я уходил с легким чувством – уж очень заманчив был предстоящий вечер; а он смотрел мне вслед с нашего балкона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу