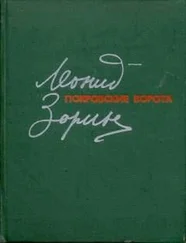– Или просто меланхоликом, – сказал я.
– Во всяком случае, порядочным человеком, – настаивал Борис Семенович. – Чего вы боитесь? Нелепые люди, ну чего вы боитесь? Так его обидят. Пусть. Лишь бы он сам не обижал.
Но меня вовсе не устраивало, чтоб Сергея обижали. Я знаю, что это очень скверно, когда тебя обижают. И меня мало привлекал попахивающий болезненно-сладкой гнильцой культ смирения. Никого вы не купите вашим смирением, дорогие друзья. Можете сидеть с вашими постными всепрощающими лицами хоть до второго пришествия.
А уж я-то был убежден, что старики тщательно пестуют эту лирическую стихию, объявившуюся в моем сыне. Мария Львовна, например, учила его каким-то странным песенкам – не то ирландским, не то исландским, совсем не похожим на те, что пели остальные ребята.
Однажды она потратила целый час, чтоб обучить его следующему песнопению:
Если щегленок поет – исчезают заботы,
Если щегленок поет – на душе хорошо…
Дальше шло несколько куплетов, прославлявших щегленка, я их забыл, а кончалось все это приблизительно так:
Плечи расправь и шагай уверенно,
Твердо надейся на добрый исход,
Помни, что ничего не потеряно,
Если щегленок поет…
Очень бы я хотел встретить человека, который бы мне объяснил, зачем нужно забивать ребенку голову этими странностями?
«Надейся на добрый исход»… Зачем ему вообще знать это слово – «исход»? В этом слове заключено что-то безнадежно щемящее, связанное с изгнанием, бегством, концом. Слово «добрый» рядом со словом «исход» кажется мне притянутым за уши. Нет, кроме шуток, «исход» – глубоко трагическое словечко, и совсем не нужно петь Сережке про исход и про то, что еще не все потеряно. О господи, он успеет наплакаться от потерь. Помнится, в тот раз мы повздорили с Марией Львовной весьма основательно…
Ресторан был пуст, я проглотил свои сосиски, расплатился с чернявой официанткой и встал. Дождь кончился, и можно было выйти в город. Я вспомнил, что именно так говорил матери, убегая по вечерам. «Котик, куда?» – спрашивала мама. «Я выйду в город!» – кричал я, уже с лестницы. Про себя я здорово удивлялся, что ей никак не приедается спрашивать. В самом деле, я всегда отвечал одно и то же. Но ей не приедалось.
Да, город чудодейственно изменился. Весь его центр был уже не моим. Новые дома, новые, прорубленные меж старых переулков улицы, даже приморская часть изменилась, набережная растянулась почти до Кривой Косы, а в мои розовые дни Кривая Коса находилась за границами цивилизации. Прибрежная полоса была теперь вся в фонарях, – из этих полукруглых молочных чаш по вечерам должен был струиться яркий и беспощадный свет. Конечно, он сильно затрудняет жизнь местных пиратов, но зато и влюбленным от него одно горе. Я вспомнил, как на скамейках, в спасительной темноте, почти без промежутков сидели парочки, пьяные от близости и поцелуев, и посочувствовал тем, кто принял от них эстафету. Впрочем, должно быть, они как-то устраиваются.
Знакомых мне не удалось встретить. Раньше, бывало, я то и дело раскланивался налево и направо. Сегодня мне либо не везло, либо так уж случилось, но ни одного знакомого лица, ни одного. Город выбросил блудного сына, отрекся от него решительно и бесповоротно. Город был прав: не я ли оставил его, предал, бежал? И вот сегодня он мстил равнодушием.
Только тогда, когда я попал в старую его часть – мы ее называли Нагорной, – я почувствовал себя уверенней. Время почти не обтесало эти места, и они сохранили для меня иллюзию устойчивости. Слава богу, теперь я начал узнавать свое детство. Вот он наконец, давно ушедший мир, в котором я жил, словно в другом летосчислении, в другой жизни. Мои нелепые, шумные улицы, где все на виду, все на балконах или на табуретках у ворот, у входов в узкие, грязные дворы, улицы, где мостовые ползут вверх, вверх и дома лепятся друг к другу. И семьи здесь были мощными на удивление – благопристойный вариант «папа, мама и дитя» был тут ни при чем. В маленьких комнатах размещались шумные кланы – родители, братья, сестры, зятья, внуки. Южная плодовитость, подогреваемая солнцем и морем, находила таким образом свой естественный выход. На моих глазах создавалось множество коммун. Еще вчера девочки играли рядом с братьями, а сегодня они уже выбегали на улицу в своих единственных выходных платьицах – пышные широкобедрые красотки. И, ощущая сладкое головокружение, я смотрел на их сильные загорелые ноги в белых лодочках. Каблучки стучали победной дробью, и мимо снисходительных соседских взглядов девушки неслись к угловому магазинчику, где их уже ждали молодые брюнеты в белых рубашках. И они скрывались за углом, густой вечер заметал их следы, а соседки судачили на табуретках, выставленных вдоль подъездов. А потом чаще всего брюнеты селились вместе с девушками, потом подрастали братья и тоже приводили в дом своих подружек, и комнатки раздавались вширь, точно они были резиновые. И вся эта молодая, жадная до жизни орава с утра до ночи голосила, смеялась, спорила, а к ночи дом превращался в одну огромную спальню: спали на полу, спали на балконах, если было еще тепло, отгораживались ширмами или простынями и что есть сил любили друг друга, благо почти до декабря воздух был знойным и терпким. Приходила весна, за ней другая, и на улицу выползали голопузые, в одних рубашонках, щекастые, высокомерные младенцы. День-деньской они бессмысленно гомонили, а вечером, после трудового дня, на улицу выносил свой табурет сам патриарх-отец, тесть, свекор, дед: чаще всего он был сапожником, портным или водопроводчиком, случалось, что он работал на Коксохиме. Дети шуршали у его ног, что муравьи, он только посмеивался – не человек, а генеалогическое дерево, – да играл в нарды или шашки с приятелями, такими же родоначальниками, как он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу